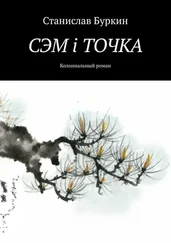На Вожирар одержимый араб выцыганил у меня двадцать девять евро. Зачем они тебе? Ты же пропащий человек. Впрочем, бери, не жалко — ради святого праздника.
Вот было время, когда в Париже что ни таксист, то русский белогвардеец. Впрочем, лучше уж наше время…
Дома я долго сидел в темноте на кровати и думал, что вправду очень хотел бы причаститься на Троицу. Смыть с себя все и держаться, читая каждый день по главе из Евангелия. Как раньше, путешествовать по берегам моря Галилейского и размышлять над легкой, как знойный ветерок, премудростью. И когда я предстану на Страшном суде, то скажу Богу: может, я был самым ничтожным из творений Твоих, но я любил Тебя, о Господи!
Я подумал, что завтра в храме на Петель исповеди уже не будет, и решил позвонить в Россию очень хорошему молодому священнику. В Томске уже было утро, и я не боялся разбудить его. Все это время я совсем не звонил домой, потому что боялся, что меня по звонку выследят.
— Боже мой, Александр, откуда же ты? — изумился он. — Тут все потеряли тебя. Мама твоя приходила ко мне. Плакала. Где ты?
— Это не важно, отец Максим, — сказал я.
— Позвони хотя бы родителям. Они говорят, что жена ищет тебя.
— Я не могу, — сказал я. — Это вопрос жизни и смерти. Может быть, напишу им. Но я прошу вас никому не говорить, что я звонил вам. Хорошо?
— Как же так, Саша? А жена?
— Это вопрос жизни и смерти. Я очень, очень вляпался, и теперь никто не должен знать, где я живу и жив ли вообще.
— Но ты хоть в России?
— Это не важно, — устало и протяжно повторил я. — Звоню, чтобы спросить, могу ли я исповедаться вам по телефону?
— А что, поблизости нет храма?
— Есть, но я хочу причаститься на Троицу, а в храме исповеди уже не будет. Я очень прошу. Тем более я себя скверно чувствую…
— Ты нездоров?
— Похоже.
— Ну хорошо, — после паузы сказал он. — Тогда почему бы и нет? Давай сначала помолимся.
Я горько заплакал, когда он начал молиться, и тут же, когда я еще всхлипывал, мне стало очень легко и свежо на душе, словно с меня опять срезали тугие пластиковые наручники. И тихие слова, произносимые им быстро, без всякого выражения, то взлетали вверх, то опускались на выдохе…
До храма Трех Святителей на улице Петель от меня рукой подать. Я так отвык от церкви за все эти годы, что едва не упал в обморок от духоты и бесконечного стояния в тесной толпе. Был архиерей, и во время торжественной службы мне чудилось, что на каких-то «солнцах» (там золотые круги на шестах выносили) Винни Пухи нарисованы!
После службы, чувствуя себя на коне, я решил сразу поехать к ней и подстричься еще разок, хотя я стригся у нее дней пять назад. Там в салоне была узенькая, но чистенькая уборная, где можно было неплохо расплатиться с парикмахершей натурой. Ведь строгий пост все равно уже кончился.
Она работала на северо-западе, в Нанте, где Сена словно обрисовывает большой палец, где вроде бы еще Париж, но где нет этой серости и призраков, и цветут сады, и ютятся в них веселые виллы, и ярко-голубые ребристые ставни приветливо распахнуты на благословенное небо Франции.
Пройдя вдоль аллеи, я нырнул в затхлое метро на Вожирар, перескочив через проклятые турникеты, и нырнул в сырые заплесневевшие переходы несерьезного парижского метро с кафелем как в старых общественных туалетах, с рекламными плакатами и ложбинкой под стеной для нечистот. Станции-ангары с одной траншеей для двух путей посередине зала; поезда узенькие, пластмассовые, безобидные. Мог доехать прямо по двенадцатой или хотя бы третьей линии, но я поехал непременно по четырнадцатой. Я по-детски люблю эту линию метро, потому что она единственная в Париже, где поезда ходят автоматически, без машинистов, и где можно смотреть вперед в извивающийся тоннель через лобовое стекло. Открылись двери поезда, а вместе с ними стеклянные двери станции, и я вышел в запах серы и, петляя переходами, пошел на вокзал Сен-Лазар. Поднялся несколькими пролетами эскалатора, оказался в толпе зала с турникетами и билетными автоматами. У араба я на лету всего за евро взял скромный букетик ландышей, перевязанный, как пучок петрушки. Еще после двух-трех виражей по заплеванным жвачкой ходам и лестницам вышел на людный перрон под сводом дебаркадера (как на Казанском, только хуже). Мрачный темный перрон с часами и синими экранами с расписанием поездов. Клод Моне правду написал о Сен-Лазар, а Фицджеральд побывал и выдумал. Старый вокзал, серый, закопченный, какой-то затхло-прошловечный, но зато с сильным библейским именем, похож на заводской цех под грязными полустеклянными крышами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





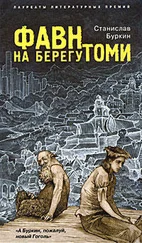


![Юлий Буркин - Мама, я люблю дракона… [Любить дракона]](/books/344726/yulij-burkin-mama-ya-lyublyu-drakona-lyubit-drakona-thumb.webp)