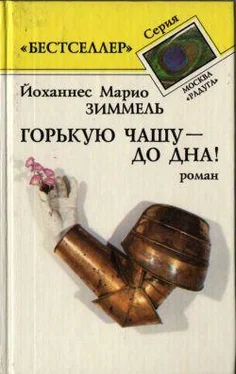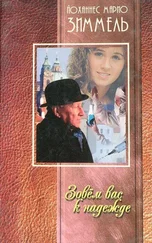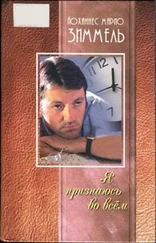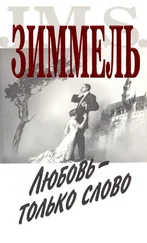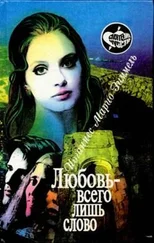Посол уже обо всем знал. Он с трудом сохранял вежливый тон. И сказал, что в связи с напряженной политической ситуацией считает мое поведение более чем неумным и ничего не может для меня сделать. Что с моей стороны было безответственным вмешиваться во внутренние дела Германии и препятствовать аресту этой фройляйн Норден.
– Но я же ему и не препятствовал! Наоборот, я…
– Мистер Джордан, у меня на столе лежат показания двух сотрудников гестапо и некоего господина Хинце-Шёна. Согласно их заявлениям, данным под присягой, вы спрятали фройляйн Норден в своем номере и противились ее задержанию, так что сотрудникам гестапо пришлось применить силу.
– Это неправда! Это ложь!
– У вас есть свидетели?
– Да!
– Кто именно?
– Господин Хинце-Шён! Если он посмеет сказать мне в лицо…
– Как сообщает киностудия УФА, господин Хинце-Шён уехал на неопределенное время. Мистер Джордан, в качестве американского посла я хочу настоятельно посоветовать вам, во избежание дальнейших инцидентов и в ваших собственных интересах, выполнить требование имперского правительства и покинуть Германию. Прощайте.
Я позвонил на студию. Хинце-Шён действительно был в отъезде. Нет, его никто не замещает. Нет, он ничего не просил мне передать. Нет, и его начальство не давало никаких указаний. Они весьма сожалеют о случившемся.
Откуда они узнали о случившемся?
– Это написано в газете «Фёлькишер беобахтер».
В самом деле, там это было написано. Один из двух гестаповцев, стоявших рядом со мной, пока я говорил по телефону, показал мне заголовок:
АМЕРИКАНСКИЙ ЭКС-КИНОБЭБИ ЗЛОУПОТРЕБИЛ НЕМЕЦКИМ ГОСТЕПРИИМСТВОМ И ОКАЗАЛСЯ НА ПОВЕРКУ АГЕНТОМ МИРОВОГО СИОНИЗМА
Я упаковал чемоданы.
В тот же вечер, в 20 часов 30 минут, я уехал с вокзала Фридрихштрассе в спальном вагоне в Париж. Оба гестаповца весь день не отходили от меня ни на шаг. Они меня и проводили…
– …до французской границы. И были очень вежливы, – рассказывал я. Опять валил снег, беззвучно и непрерывно. Мы с Наташей во второй раз обошли озеро Аусенальстер, вновь пересекли старый мост Ломбардсбрюкке и теперь шагали вдоль реки на восток, по направлению к Шваненвику. Часы на церковных башнях в округе пробили один раз.
Было час ночи.
Наташа вдруг схватила мою руку.
– Вы потом слышали что-нибудь о Ванде и ее отце?
– Да. Спустя два года, в конце сорокового. Тогда в Голливуд приехало много эмигрантов: писатели, актеры и режиссеры. Один из них был когда-то дружен с семейством Норден. Он ничего обо мне не знал. И просто рассказал всю правду. Отец действительно вернулся из Швейцарии, чтобы спасти Ванду. Мать еще до этого умерла в Цюрихе от инфаркта. Ванда и ее отец попали в концлагерь. Нацистам профессор Норден больше был не нужен. Они хотели лишь во что бы то ни стало предотвратить утечку его научных знаний к зарубежным противникам. Его исследования и разработки могли завершить и без него.
– В концлагерь, – повторила Наташа и выпустила мою руку.
– Берлинский актер, который рассказал мне все это в Голливуде, знал также, что Ванда и ее отец умерли один за другим весной сорокового года. – Я остановился под фонарем и вынул из кармана плоскую бутылочку. – Извините.
Наташа поправила дужки очков и промолчала.
Я поднес бутылочку к губам и пил долго. При этом я откинул голову назад и в желтом свете старомодного фонаря видел крохотные белые кристаллики снега. Потом мы двинулись дальше.
– Я знал, что я тогда совершил, в Берлине. Но, кроме меня, этого не знал никто. Никто меня ни в чем не упрекал. Только когда я сам вспоминал об этом…
– Вы начинали пить.
– Да. А напившись, я уже ни о чем не вспоминал. И не видел во сне. В то время я пил по-страшному. И потому все реже вспоминал о… том дне. Кроме того, считается ведь, что все в конце концов забывается, правда? Ну вот, на это я и надеялся.
В сорок третьем году меня призвали в армию, в сорок четвертом я участвовал в десанте, в сорок пятом во второй раз приехал в Берлин… «Адлон» лежал в развалинах, виллы на Херташтрассе не существовало, равно как и старушки УФА, ничего не было, одни развалины… Нищета… Нужда кругом… Эта вторая встреча с Берлином меня успокоила. У меня было такое чувство – как бы это получше сказать? – такое чувство, словно я, будучи солдатом, что-то такое искупил или, вернее, загладил, загладил свою вину, мучившую меня с тех пор, с тридцать восьмого года…
В 1946 году я вернулся в Америку.
Читать дальше