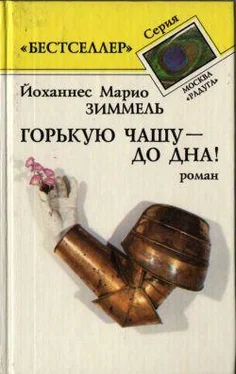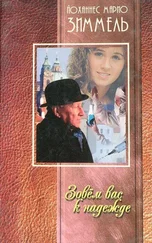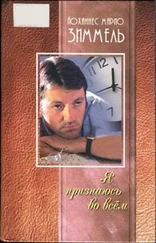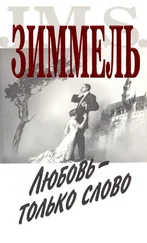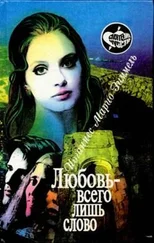Я молчал.
– Ты бы только разволновался. А может быть, и сломался. Или же случился бы еще один приступ…
– Приступ?
– После операции Шауберг говорил со своим помощником о тебе… они думали, что я еще сплю… а я была уже в полусне… Только бы помочь тебе завершить съемки, сказал Шауберг… только бы тебя не свалил новый приступ… О Боже… Боже, но ведь именно это я и хотела предотвратить!
– Что?
– Разговор обо всем этом до того, как работа над фильмом закончится. Вот ты уже и волнуешься.
– Ничего подобного. Вовсе нет.
– Волнуешься.
– Да нет же! Меня гораздо больше волновала мысль, что ты мне изменяешь.
– Ты в самом деле мог этому поверить?
Я кивнул.
– Значит, ты не сможешь поверить, что я тебя люблю.
– В последнее время я уже и не верил.
Все это не было страшным сном, наконец-то дошло до меня. Это было реальностью – страшной реальностью.
– А теперь ты вновь мне веришь?
– Да, Шерли.
– Ты веришь, что я тебя люблю… и никогда не могла бы тебе изменить?
– Верю. Рассказывай дальше. Как ты попала к этому… как ты сюда попала?
– Я была так одинока… и в таком отчаянии… С Джоан я не могла говорить… вернее, не хотела… она была для меня тем, что и раньше… чужой женщиной… И вот однажды Вернер спросил меня…
– Вернер?
– Ну да, Вернер Хенесси, молодой парень – монтажист, спросил, отчего я всегда такая грустная.
– А ты?
– Я сказала ему, что у меня большое горе. А он – только не волнуйся, прошу тебя, не волнуйся! – он сказал, что у него есть брат и что брат этот священник… совсем еще молодой, современный священник. Может быть, я хочу как-нибудь повидаться с ним и поговорить… Сначала я не хотела и думать об этом… Все эти дни я ходила по церквам… по разным церквам… и молилась за тебя… Просила Бога, чтобы он дал тебе силы завершить фильм… Но я была так одинока… и мне не с кем было поговорить… и когда Вернер, то есть Хенесси, сказал, что мне следует все же встретиться с его братом, я пошла с ним сюда.
Я взглянул в окно: приземистого дряхлого домика почти совсем не было видно из-за снега, падавшего на землю крупными хлопьями.
– Я сразу же… прониклась доверием к отцу Томасу. Он тоже сразу понял, что у меня горе. И предложил мне погулять с ним. Мы говорили и говорили… часами… Он хотел мне помочь…
– Он хотел, чтобы ты исповедалась!
– Нет, он ни разу на это не намекнул! Ни единым словом! Да я и не стала бы исповедоваться… Просто не могла – из-за ребенка… Ведь он бы обязательно сказал, что дитя должно жить. Это было бы первое, что он скажет!
Она уже тихонько плакала. Но тут вытерла слезы и машинально отхлебнула из фужера, а я подумал: как же я ее люблю, как сильно я ее люблю.
– Но если ты не могла исповедаться – зачем же опять и опять сюда возвращалась?
– Мне… мне всегда было так хорошо на душе после разговора с ним… по крайней мере какое-то время… и так покойно… знаешь, он свободно говорит по-английски. И сказал мне такие прекрасные вещи.
– Например?
– Ну, например, что в любви мы все поначалу страшные эгоисты, ибо хотим заполучить другого только для самих себя. Это самый обычный и самый распространенный вид любви, но это лжелюбовь: каждый хочет лишь сделать лучше себе самому.
– А что такое истинная любовь?
– Когда каждый делает то, что лучше для другого. Тогда-то мне и пришла в голову эта мысль.
– Какая?
– Погоди. Отец Томас сказал еще, что исповедь не так уж и важна. Человек может раскаяться и без исповеди; да и раскаяние тоже не так уж важно.
– А что же важно?
– Важно загладить свою вину. И если кто-то содеял зло, то мало совершить добро, не стоящее больших усилий. Это добро должно ему дорого стоить, должно потребовать жертвы. И чем больше прощения и понимания мы просим у Бога, тем горше и больше должна быть и жертва.
– Это сказал отец Томас?
– Да.
– Что еще он тебе сказал?
– Многое… очень многое… сказал, что я всегда могу к нему прийти, если впаду в отчаяние. И я приходила… несколько раз…
– Я знаю.
– Ничего ты не знаешь. Не знаешь, как сильно я тебя люблю. Я делала все, что ты требовал, все! Молчала. Никогда ни о чем не спрашивала. Избавилась от ребенка. Только из любви к тебе. Ни разу не исповедалась. Даже после… – Она опять заплакала. Слезы так и катились из любимых глаз. – А ты… ты становился все раздражительнее… потом появилась эта сыпь… гримеры говорили между собой об этом… я увидела, что тебе во время съемки ставили «негра», потому что ты уже не мог запомнить свой текст… и я дрожала от страха за тебя… все больше и больше… помнишь, однажды я попросила у тебя золотой крестик? Я кивнул.
Читать дальше