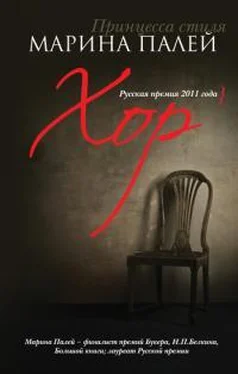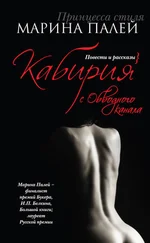...Наконец жена выбрала, в тон к глазам, длинное платье тончайшей темно-синей шерсти. В этом строгом наряде, в каком она словно бы родилась, ее фигурка казалась такой тонкой, такой беззащитно грациозной, что хотелось плакать. Жена приколола к левому плечу маленькую серебряную розу. Вот эта самая брошечка, которую жена потом потеряла, про которую Андерс, казалось, забыл, бесконтрольной своей иголкой резко и глубоко вонзилась ему прямо в мозг. Память, рванув узду, взвилась, как ужаленная, и Андерс вдруг увидел знакомый уже эпизод из другой точки : да, именно это платье, с этой розочкой, было на жене тогда, еще до их нахождения в поезде Роттердам-Утрехт – и даже раньше – еще до их нахождения в поезде Влаардинген – Роттердам – и раньше, раньше – да, раньше, а именно: в гостиной его матери, на Пасху тысяча девятьсот пятьдесят первого года, когда, неожиданно подсев к жене Пима, жена Андерса обняла ее за плечи – и запела.
И, почти сразу, жена Пима точно и сильно подхватила песню. Она сделала это так просто, будто они – жена Андерса и жена Пима – пели вместе ежедневно, привычно – так же естественно, как дышали. Более того, они пели совместно так, будто были дружны, взаимно любимы, даже родны. (А ведь дело обстояло как раз наоборот, и Андерс отлично знал это!)
Они пели так, будто осознали свое неизбывное, свое сладостное сиротство в этом непостижимом мире.
Они пели только для Бога.
Словно в последние минуты своей земной жизни.
А иногда они пели так, будто привычный земной мир виделся им каким-то иным. Наверное, таким же, каким был внутри них самих.
Они были слитны нерасторжимо.
Они пели.
17.
…Андерсу выпало особенно жестокое испытание, потому что он не знал их языка. Если б он знал язык, на каком они пели, он бы, возможно, еще мог защититься. Ведь в песне, которую принято называть народной, слова существуют лишь для того, чтобы как-то прикрыть душераздирающий смысл мелоса. В силу гибельной тайны, которой всегда обладает мелодия песни, ее словесный покров простодушно, как может, пытается отвлечь, отвлечь, увести слушающего в сторону от ужаса, то есть от истинного содержания: ох, ве-е-есел я, ве-есе-е-ел – в но-о-онешний ве-е-ечер!!!.. ох… ро… зычка… алая-а-а… Ну и весел, ну так что? – а на самом деле это про такое-то уж про отчаянное, про такое-то уж отпетое, лютое веселье смертника, когда до петли – шаг. (Да, может, он уж и сделан – иначе откуда там эта "розычка" похоронная?) Или – еще не легче: лютики-цветочки, зелены садочки, черемуха белая, ягодка спелая, в огороде репка, во поле береза… Вроде бы, все нормально, все пребывает на предписанных Богом местах, – а мелодия, отдельно и внятно, плачет-сиротится, жалится-вздыхает – о том, что счастья нет и не будет в помине, что и быть-то счастья не может, а есть лишь безнадежная тоска-разлука, лишь прощание на веки вечные; да и что такое жизнь человечья? печенка овечья. (Или, по словам классика, вот она, тройная формула существования: неизбежность, недостижимость, невозвратность .)
А что будет, если слова, в целомудренном своем милосердии скрывающие смысл песни, в силу каких-то причин (чужой язык) не могут отвлечь – влекомого к боли – сердца? Тогда пойманный – без наркоза, весь как есть, голышом – оказывается подставленным чудовищному, ни с чем не сравнимому разрушению. Мелодия песни, воспроизведенная голосом человека, проникает слишком глубоко – она, как пуля со смещенным центром тяжести, рвет человечье нутро по всем направлениям, и, покуда уж не оголит его до самого основания, не разворотит полностью, - до тех пор не успокоится.
18.
Андерс совсем не был к этому готов. Его мать, у которой, несмотря на формальный переход в вероисповедание мужа, кальвинизм был очень силен (пожалуй, именно он, без каких-либо примесей, и составлял ее скудную, плоскую, несгибаемую суть), – его мать, формально обращенная в католицизм не чаявшего в ней души супруга (а на деле, своей беспрекословной протестантской постностью нивелировавшая его личность так же добросовестно и успешно, как это делает асфальтовый каток), – меврау ван Риддердейк воспитывала детей в том непреложном духе, что петь-де уместно в гимназии (на уроке пения, под руководством учителя пения); можно и даже нужно петь – по нотам, в кирхе или соборе (где существуют специальные, предназначенные именно для пения, моменты службы); не возбраняется также иметь приличное хобби, а именно: занятия в хоровой группе, где люди совершенствуют свои навыки в пении по нотам, и эти навыки затем применяют в кирхе или соборе (в особый момент богослужения, предназначенный непосредственно для пения). Андерс никогда не слышал, чтобы дома, кто-либо из членов семьи, пел. Пело иногда радио, радиоприемник, но на студии петь вполне уместно, потому что это работа людей, которые получают за нее деньги и платят из них налоги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу