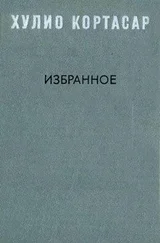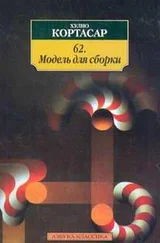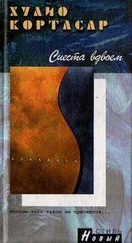Хулио Кортасар
Во имя Боби
Вчера ему исполнилось восемь, мы чудесно отметили его день рождения, и Боби остался доволен заводным поездом, футбольным мячом и тортом со свечками. Сестра побаивалась, как бы он в эти дни не нахватал в школе плохих отметок, но вышло наоборот, а по арифметике и чтению Боби даже подтянулся, так что причины лишать его подарков не было, отнюдь. Мы разрешили ему пригласить друзей, и он позвал Бето и Хуаниту; еще заходил Марио Пансани, но ненадолго, потому что у него заболел отец. Сестра позволила ребятам играть во дворе дотемна, и Боби вынес свой новый мячик; правда, мы опасались, что он в порыве восторга помнет наши цветы. Когда же пришло время пить оранжад и есть торт, мы пропели ему хором песенку — ту, что обычно поют имениннику, и вдоволь нахохотались, потому что всем было весело, а особенно Боби и моей сестре; я, конечно, неусыпно следила за Боби, но, похоже, только даром теряла время: следить ведь было не за чем; однако я не сводила с Боби глаз, когда он впадал в задумчивость, и все пыталась поймать его взгляд — тот самый, особенный взгляд… сестра его, по-моему, не замечает, а мне он доставляет столько страданий!
Вчера он посмотрел на мою сестру так всего один раз, когда она зажигала свечки, но тут же потупился и сказал тоном благовоспитанного ребенка (впрочем, он действительно хорошо воспитан):
— Какой красивый торт, мама!
Хуанита тоже одобрила торт, и Марио Пансани — тоже. Я дала Боби большой нож и следила за ним в оба, но малыш увлекся и на сестру мою почти не смотрел, ему куда важнее было разрезать торт на равные порции, чтобы никого не обделить.
— Сначала — маме, — сказал Боби, протягивая ей блюдце. А затем угостил Хуаниту и меня: о женщинах ведь надо заботиться в первую очередь.
Наевшись, ребятишки (кроме Марио Пансани, у которого болел отец) отправились играть во двор, но прежде Боби еще раз сказал моей сестре, что торт очень вкусный, а потом подбежал ко мне и чмокнул в щеку:
— Поезд просто чудесный, тетечка!
Вечером же он залез ко мне на колени и поведал великую тайну:
— Знаешь, мне теперь целых восемь лет, тетя! Мы долго не ложились… впрочем, дело было в субботу, и Боби мог колобродить допоздна. Я пошла спать последней, предварительно прибравшись в столовой и расставив стулья по местам: дети играли в затонувший корабль и во всякие прочие игры, во время которых дом переворачивается вверх дном. Спрятав большой нож, я заглянула к сестре, которая уже спала блаженным сном, а потом зашла к Боби… он лежал на животе — это его любимая поза с младенчества, — простыни сползли на пол, нога свисала с кровати, но он спал сладко-сладко, уткнувшись в подушку. Если бы у меня был ребенок, я бы тоже укладывала его спать на живот… впрочем, к чему думать о ерунде? Я легла в постель и не стала браться за книгу… зря, наверное, потому, что сон не шел и со мной случилось то, что обычно случается, когда теряешь волю и тебя со всех сторон осаждают мысли, которые кажутся тебе правильными, — ведь все, что вот так, с бухты-барахты, приходит на ум, правильно и почти все ужасно, и рассеять наваждение нельзя никакими силами. Я выпила подслащенной воды и сосчитала от трехсот до одного: так сложнее, а значит, быстрее можно заснуть… но я не успела задремать, потому что меня начали одолевать сомнения: спрятала ли я нож, или он по-прежнему лежит на столе? Это было глупо, ведь я все убрала и прекрасно помнила, что положила нож в нижний ящик кухонного шкафа; но сомнения не исчезли. Я встала, и, разумеется, нож оказался на месте, он преспокойно лежал среди столовых приборов. Не знаю почему, но мне захотелось унести его в спальню, я даже протянула руку, однако сочла, что захожу слишком далеко, посмотрелась в зеркало и скорчила гримасу. Это мне тоже не понравилось, — нашла время! — и я налила себе рюмочку анисовки (хотя при моей больной печени пить — чистейшее безрассудство) и потихоньку потягивала спиртное, лежа в постели и стараясь задремать; сестра во сне всхрапывала, а Боби, как обычно, разговаривал или стонал.
Но едва я начала засыпать, все внезапно нахлынуло вновь: я вспомнила, как Боби впервые спросил мою сестру, отчего она с ним плохо обращается, и сестра — святая, это все говорят, — уставилась на него, словно услышав что-то смешное, и даже расхохоталась, а я… я тоже была там, заваривала мате, помню, что Боби не рассмеялся. Наоборот, он погрустнел и упорно добивался ответа… ему было тогда семь лет, и малыш поминутно задавал странные вопросы, как все дети; однажды он спросил, чем деревья отличаются от людей, я пожала плечами, а он воскликнул:
Читать дальше