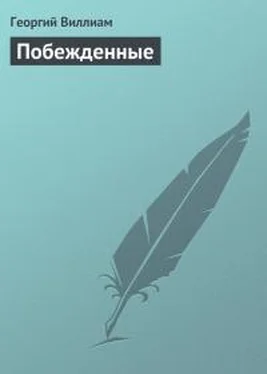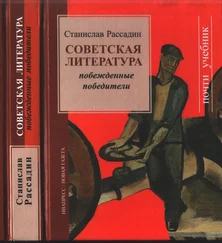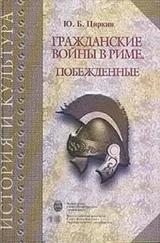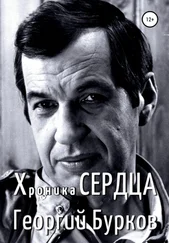Мне этот ротмистр почему-то сразу приглянулся. Высокий, статный, загорелый, с белым сабельным шрамом поперек лба и с серьгою в ухе, он был по-солдатски простосердечен и грубоват, любил специфические кавалерийские словечки, и отличался каким-то суровым рыцарством манер и характера. Рубака, должно быть, был отчаянный. Почему-то напоминал он мне Николая Ростова из «Войны и мира».
В победу Деникина он не верил. На добровольцев, особенно на кавалеристов, смотрел с презрением профессионала на дилетантов.
– Помилуйте, кавалерист должен быть на четырех конских ногах, как на своих двоих, а этот – и сидит-то, словно собака на заборе.
Я немного коварно спросил его про Буденного. Он задумчиво протянул:
– Д-да… Конник хороший!.. Нашей выучки…
Потом живо взглянул на меня и сказал:
– Впрочем, и Буденный никуда не годится… эти «пролетарии на конях» – настоящая мразь! всегда расстреливаю, этих конников… Настоящего кавалериста не расстрелял бы, будь он семь раз красный…
Видя, что меня слегка передернуло от его слов, он снисходительно усмехнулся:
– Нашему брату «нервов» не полагается. Гражданская война: сегодня ты, а завтра я. И сам пощады не попрошу, когда попадусь. А попадусь, наверное, не сегодня-завтра.
Он помолчал немного, потом заговорил снова:
– Поверите, до чего дошел: вот вы для меня безразличны. А подойди к вам сейчас кто-нибудь, наведи револьвер, я и не подумаю вступаться. Разве отодвинусь, чтобы мозгом не забрызгало.
Красных, взятых в плен, он, по его словам, приказывал «долго и нудно» бить, а потом «пускал в расход».
– Офицеров красных, тех всегда сам…
Он оживился и с засветившимся взором продолжал:
– Поставишь его, Иуду, после допроса к стенке. Винтовку на изготовку, и начинаешь медленно наводить… Сначала в глаза прицелишься; потом тихонько ведешь дуло вниз, к животу, и – бах! Видишь, как он перед дулом извивается, пузо втягивает; как бересту на огне его, голубчика, поводит, злость возьмет: два раза по нем дулом проведешь, дашь помучиться, и тогда уже кончишь. Да не сразу, а так, чтобы помучился досыта.
– Бывало и так: увидит винтовку и сейчас глаза закроет.
Ну, такому крикнешь: «Господин офицер, стыдно с закрытыми глазами умирать». И представьте себе: действовало! – обязательно посмотрит.
– Подраненных не позволял добивать: пускай почувствует…
Вообще, отношение ко взятым в плен красноармейцам со стороны добровольцев было ужасное. Распоряжение генерала Деникина на этот счет открыто нарушалось, и самого его за это называли «бабой». Жестокости иногда допускались такие, что самые заядлые фронтовики говорили о них с краской стыда.
Помню, один офицер из отряда Шкуро, из так называемой «волчьей сотни», отличавшийся чудовищной свирепостью, сообщая мне подробности победы над бандами Махно, захватившими, кажется, Мариуполь, даже поперхнулся, когда назвал цифру расстрелянных безоружных уже противников:
– Четыре тысячи!..
Он попробовал смягчить жестокость сообщения.
– Ну, да ведь они тоже не репу сеют, когда попадешься к ним… Но все-таки…
И добавил вполголоса, чтобы не заметили, его колебаний:
– О четырех тысячах не пишите… Еще бог знает, что про нас говорить станут… И без того собак вешают за все!..
Не так относились к зеленым.
К нам иногда заходил член военно-полевого суда, офицер-петербуржец. Совершенно лысый, не без фатовства слегка припадающий на правую ножку, с барским басом и изысканными манерами. Руки у него были выхоленные, как у женщины; лицо землистое, с мутными, словно пылающими в какой-то жидкости, мертвыми глазами и мертвой, застывшей улыбкой. Этот даже с известной гордостью повествовал о своих подвигах; когда выносили у него, в суде смертный приговор, потирал от удовольствия свои выхоленные руки. Раз, когда приговорил к петле женщину, он прибежал ко мне, пьяный от радости.
– Наследство получили?
– Какое там! Первую. Вы понимаете, первую сегодня!..
Ночью вешать в тюрьме будут…
Помню его рассказ об интеллигенте-зеленом. Среди них попадались доктора, учителя, инженеры…
– Застукали его на слове «товарищ». Это он, милашка, мне говорит, когда пришли к нему с обыском. Товарищ, говорит, вам что тут надо? Добились, что он – организатор их них шаек. Самый опасный тип. Правда, чтобы получить сознание, пришлось его слегка пожарить на вольном духу, как выражался когда-то мой повар. Сначала молчал: только скулы ворочаются; ну, потом, само собой, сознался, когда пятки у него подрумянились на мангале… Удивительный аппарат этот самый мангал! Распорядились с ним после этого по историческому образцу, по системе английских кавалеров. По среди станицы врыли столб; привязали его повыше; обвили вокруг черепа веревку, сквозь веревку просунули кол и – кругообразное вращение! Долго пришлось крутить, сначала он не понимал, что с ним делают; но скоро догадался и вырваться пробовал. Не тут-то было. А толпа, – я приказал всю станицу согнать, для назидания, – смотрит и не понимает, то же самое. Однако и эти раскусили и было – выбега, их в нагайки, остановили. Под конец солдаты отказались крутить; господа офицеры взялись. И вдруг слышим: кряк! – черепная коробка хряснула – и кончено; сразу вся веревка покраснела, и повис он, как тряпка. Зрелище поучительное. И что же? В благодарность за даровой спектакль, подходит ко мне девица, совершенно простая, ножищи в грязи, и – харк мне в физиономию! Ну, я ее, рабу божию, шашкой! Рядом с товарищем положили: жених и невеста, ха, ха, ха!
Читать дальше