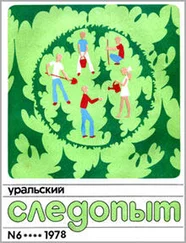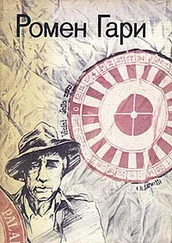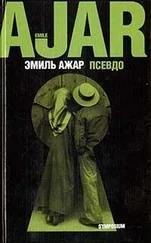Зато в это же время произошло важное событие: я встретил профессора Цуреса. Он живет этажом выше в квартире с большим балконом. Профессор Цурес — благодетель человечества. Газеты пишут, что только в прошлом году он поставил свою подпись под семьюдесятью двумя обращениями деятелей науки и культуры в знак протеста, солидарности или с призывом о помощи. Между прочим, я заметил: подписываются всегда только эти деятели, как будто остальные неграмотные. Поводы самые разные: голод, геноцид, дискриминация. Подпись профессора Цуреса — все равно что три звездочки в мишленовском путеводителе. Я уж так и считаю: если где-то пошла резня или там гонения, а подписи профессора Цуреса нет, значит, можно не суетиться, это не высший класс. Мне, как эксперту по картинам, нужна для заключения подпись мастера в нижнем углу. Подпись удостоверяет подлинность. А ведь, говорят, столько развелось подделок, даже в Лувре попадаются.
Итак, я счел своим долгом представиться человеку, имеющему такой престиж и такие заслуги перед страдальцами. Но, разумеется, скромно, чтобы не показаться навязчивым и нахальным. И стал поджидать профессора Цуреса у дверей его квартиры, встречать его радушной, но ни к чему не обязывающей улыбкой. Поначалу он мимоходом приподнимал шляпу: сосед есть сосед. Но поскольку наши встречи на площадке у его дверей продолжались изо дня в день, приветствие его становилось все суше и суше и наконец совсем иссохло: не прикасаясь к головному убору и не глядя на меня, он хмуро проходил мимо. Понятно, я же не жертва насилия, во всяком случае снаружи это не видно. На мировой уровень я не тяну: вшивенькая демографическая единица, а туда ж! Профессор Цурес — солидный седовласый муж, привыкший к пыткам в Алжире, напалму во Вьетнаме, голоду в Африке, где уж мне равняться. Может, я и не был для него совсем пустым местом; и будь у меня налицо нехватка конечностей, ему было бы за что ухватиться, впрочем, вряд ли; у него другие масштабы. Я — одиночное бедствие, моя масса близка к нулю, а у него не водится мелочи, его человеколюбивые акции оцениваются миллионами, он оперирует статистическими величинами, так что в некотором смысле мы с ним коллеги. Он из категории людей, для которых только миллионное кровопролитие становится ощутимым. Таковы издержки крупномасштабного состояния. Вполне осознавая, что я всего-навсего мушиное пятнышко, капля в демографическом море и что, говоря языком кино, меня в титрах нет, я стал появляться на этаже профессора с букетиком цветов в руках, чтобы нарушить заурядность. Это возымело эффект, но он начал как-то побаиваться меня: уж очень стойкое пятнышко, никак его не вывести. А я упорно — что называется, «с упорством отчаяния» — и проникновенно улыбался.
Надо сказать, то была мрачная полоса в моей жизни. Голубчик погрузился в долгое оцепенение, мадемуазель Дрейфус внезапно ушла в отпуск, население Парижа еще возросло. Мне страшно хотелось, чтобы профессор Цурес заметил меня, как вспышку насилия, как преступление против человечества. Я мечтал, чтобы он пригласил меня к себе и мы бы стали друзьями, сидели за чашкой чаю и он рассказывал бы мне о прочих бедствиях из своей коллекции, чтобы мне было не так одиноко. Вкушая плоды демократии, можно прилично подкрепиться.
Короче, профессор Цурес занимал все мои мысли, и было так приятно сознавать, что он здесь, у меня над головой. У него прекрасная внешность: строгие, но справедливые черты лица, холеная седая бородка. При одном взгляде на него проникаешься гордостью, взлелеянной властями на примере великих соотечественников всех времен в целях возвеличивания подданных в собственных глазах.
Много недель продолжались наши встречи на лестничной площадке, расширявшие круг моих друзей. Я приготовил для профессора светлое бархатное кресло в гостиной и уже представлял, как он сидит в нем и беседует со мной о способах стимуляции полноценной рождаемости и предотвращения десятков миллионов несделанных абортов, в результате которых появляются на свет недородки, в нарушение священного права на жизнь. А на случай нехватки тем для обсуждения я внимательно штудировал газеты. Правда, профессор Цурес все еще не говорил мне ни слова, но я объяснял это тем, что мы давно знакомы и говорить уже не о чем. Думать иначе: будто профессор Цурес не удостаивает меня своим вниманием, так как я не массовое убийство и не подавление свободы слова в Советской России, — было бы ошибкой. Просто он занят наиболее крупными явлениями, а наличие удава длиной в два метра двадцать сантиметров еще не дает мне права считать себя таковым. Да я и не ждал, чтобы он бросился обнимать меня с пустейшим возгласом «как дела», который позволяет отделаться от ближнего двумя словами и дальше преспокойно заниматься собой.
Читать дальше