– Ну что ж, начинайте.
Афанасьев-старший поднялся из-за стола. Колыхнулся в пиджачном кармашке остро отточенный карандаш. Официально-суровое выражение словно бы навеки сцементировало складки его лица, спрятав от посторонних глаз тревогу. И всё тот же слегка надтреснутый голос, всё та же привычно-назидательная интонация.
– Как отец и учитель я спрашиваю тебя, Виктор: ты пионер, как ты мог совершить такой проступок?.. Обидеть девочку…
И снова – молоточки в голове и зыбкость под ногами. Мельтешат учительские лица. Приближаются-наплывают заледеневшие в испуге глаза отца с набрякшими мешочками. Сжал кулаки Витька, задохнулся в крике:
– А как ты вчера, дома, мог?.. Ты… ты… не имеешь права!.. Притвора!.. Лгун!..
Развернулся. Толкнул дверь. Выбежал в коридор. Его качнуло и понесло в угол. Там бачок с питьевой водой, он приближается, наплывает, сейчас собьёт с ног. Уперся в него руками, наклонив голову, остановил движение. Что-то нужно сейчас сделать. Что? Да, конечно, найти кружку, она была где-то здесь, на цепочке. Вон болтается. Витька хочет взять, но она выскальзывает из прыгающих рук. Как остановить, как унять бьющий его колотун?
Хлопнула сзади дверь. Чьи-то шаги. Чья-то рука легла на плечо. Да, конечно, это Мусью. Он что-то говорит глуховато-рокочущим голосом. Пискнул повернутый кран, полилась вода. Зубы отбарабанили дробь по краю кружки, и колотун стал стихать.
Витька поднял глаза. Александр Алексеевич смотрел на него, страдальчески щурясь – точно такой же взгляд был у матери, когда он заболевал, – и Витька, не думая – зачем, не ожидая ответа, почти машинально спросил, всё ещё слегка задыхаясь:
– Это один из ваших шпионских приёмов, да? Мне отец про них говорил…
Рука учителя дрогнула, но не ушла, только крепче сжала Витькино плечо, унимая его дрожь.
– А я-то гадаю, – сказал Александр Алексеевич, – откуда эти разговоры про то, что я румынский шпион.
4 Неслучайные взгляды
Теперь стало ясно Бессонову, кто спровоцировал проверку. Афанасьев-старший. Видимо – через прежних своих кишинёвских сослуживцев, о коих сам же, помнится, отзывался весьма неуважительно: «Канцелярская моль!» Ведь именно его, афанасьевские, формулировки звучали, когда приехавший из Кишинёва посланец интересовался, не видит ли Бессонов в своих действиях низкопоклонства перед Западом . Нет, Бессонов не видит. Он приобщает сельских ребят к мировой культуре, а у неё нет естественных границ. Разве что – искусственные.
Медленно, медленнее обычного, шёл Бессонов по сельской улице, сосредоточенно обдумывая то, что ему открылось. Рыжая Ласка с тяжёлым брюхом (вот-вот должна ощениться) шла впереди, останавливалась, глядя на хозяина, слабо шевелила хвостом – нет, не торопила. Удивлялась его чрезмерной медлительности.
А день был совсем весенний. Угольно-крапчатые скворцы, скрипуче перекликаясь, шныряли в палисадниках и огородах, небо синело высоко и просторно, петлистое русло Днестра, освободившись от ледяной корки, пульсировало струящимся блеском, и горизонт, растворив сизую дымку, раздвинулся.
Но всё это только усиливало чувство тревоги. И взгляды, всегда сопровождавшие Бессонова на сельской улице – из окна ли, с крыльца, из-за забора, – сегодня не казались случайными. Чудилось в них то сочувствие, то злорадство, как и – в кивках встречных с привычным молдавским приветствием «Бунэ зиуа» («Добрый день»). Ну да, конечно, по селу разошёлся слух, усиленный приездом проверяльщика из Кишинёва, о том, что этот чудаковатый учитель – совсем и не учитель, а только им притворяется. И теперь власть с ним разберётся.
А кто он, если задуматься?
Может, права скорая на суд и расправу Лучия Ивановна, считающая его неудачником? Стоило ли цепляться за это камышовое захолустье – говорила она не раз – только потому, что ему, Александру, выпало провести здесь детство? Ведь до того момента, когда их страны разделила жёстко контролируемая граница, была возможность остаться там, где сейчас стареет его мать. Ему несложно было бы найти себе достойное применение не только там – в любой стране. И ни к чему ссылаться на привязанность к «малой» или к «большой» родине, ведь он со своим образованием и языками – человек мира, у него родина там, где идёт хоть какая-то культурная жизнь.
Да, конечно, никто не спорит, можно и здесь её создавать, только ведь – в ущерб самому себе, своим возможностям. В ущерб семье, сыну наконец, обречённому расти именно в этой, а не в иной среде, – так без устали твердила Лучия Ивановна, снова и снова излагая ему свою окончательную правду.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

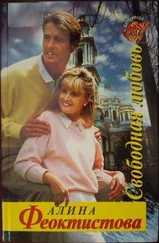
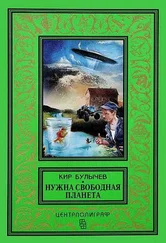
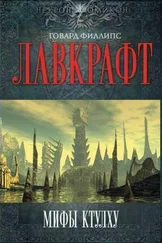




![Дэниел О’Мэлли - Ладья [litres]](/books/407552/deniel-o-melli-ladya-litres-thumb.webp)


