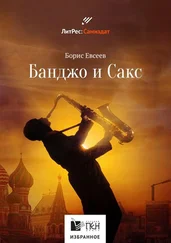– Да Салтыков же, да Щедрин же наш дурацкий! – старался я поднять ей настроение и настроить на сотрудничество. – Ну если не хочешь Щедрина, то: Синематограф! Три скамейки! Сантиментальная горячка! Аристократка же! (И богачка?!) в сетях «суперницы-злодейки»!
Однако и стихи не помогали. Видя такое разочарование, я поручал О-Ё-Ёй самостоятельную роль в «кинематографе прозы».
– У-у-у-гу-гууу! – гудела и выла она. – О, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с нею. У-у-у!
И я вилял хвостом и скакал вокруг нее, как пес Шарик, и пел куски из запрещенной и поэтому ненасытно всеми читаемой повести, при этом пылко доказывая ничего в этом не смыслившей О-Ё-Ёй, что Булгаков вырос вовсе не из Гоголя, а из Льва Толстого. А потом начинал, мечась тихой рысью по комнате, как по долинам и по взгорьям, выкрикивать: «Служил на Кавказе офицером один барин! Звали его Жилин!.. На Кавказе тогда была война! По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда! Чуть кто из русских солдат отъедет или отойдет от крепости, – татары или убьют, или уведут в горы!»
Но и это не помогало. «Легкий кинематограф прозы» во мне еще как следует не сложившийся, вылуплялся наружу гадкой декламацией, глупыми прыжками, жалким иллюстранством прочитанного.
Тогда я придумал совмещать «легкий кинематограф» с вытесыванием скрипки. То есть решил тесать и рассказывать что-нибудь только сейчас в ум вступившее. Иногда эту мастеровую и столярную прозу я игрой на скрипке и иллюстрировал.
Само собой, такие вибрации ума были невозможны в общежитии. Весь этот «кинематограф прозы» можно было сотворить только здесь, на Таганке. Но для этого надо было перебраться сюда совсем…
Вспомнив о «кинематографе прозы» в сияющем и ухоженном Доме книги, я тут же себя спросил: «А чего б не устроить „легкий кинематограф“ здесь, в магазине?»
Меня давно подмывало на каком-нибудь из профсоюзных собраний или на торжественном вечере резво вскочить и сказать что-нибудь, с обстановкой совершенно не вяжущееся. Что-то простое и в то же время оглушающее. Так, в метро мне хотелось подняться с сиденья и в секундной тишине, между окончанием речи диктора и отправлением поезда, объявить «десятиминутный перерыв».
На репетиции же оркестра хотелось призвать не к перерыву, а, не подымаясь с места, дважды (второй раз на bis) крикнуть: «На фига козе баян?!»
Но в оркестре я кричать остерегался, хотя мне казалось: мой высокий, а при крике и пронзительный голос добавит красочки в любую партитуру. Изображать же из себя городского сумасшедшего в метро – это я пока решил оставить Гурию Лишнему…
Несколько минут останавливало то, что в Доме книги, куда я спускался с улицы Воровского два раза в неделю на протяжении всего прошлого учебного года, меня уже немного знали.
Во главе очереди я заметил двух подпольных продавцов книг и одного институтского преподавателя, славившегося своей начитанностью. С одним из продавцов книг я был даже шапочно знаком.
Это был угрюмый человек. Зимой он ходил в шапке с опущенными ушами, весной, летом и осенью в сером пиджаке без пуговиц, но с аккуратно нашитыми кожаными локтями. Неприятно долговязый, словно развинчивающий себя при ходьбе на шайбочки и винтики, но с неожиданно мягким, терпеливым голосом, он славился тем, что продавал из-под полы парижские издания Бориса Зайцева.
Только Зайцев! Никто другой, кроме этого эмигранта-долгожителя, признаваем долговязым продавцом не был.
Прославился «зайцепродавец» еще и тем, что всегда и всем говорил несколько одних и тех же, для меня так и оставшихся загадкой фраз:
– Свобода слова – не в произнесении его, дурни! И не в печатании. Свобода – в отыскании слова. Поройся в хламе души! Отыщи! Тогда – свобода. К примеру, Зайцев Борис Константинович. Он ведь как писал про Тургеньева? – Зайцепродавец всегда произносил фамилию классика с мягким знаком. – А про Тургеньева Борис Константинович писал: «Для заполнения опыта настигла его теперь война». Вот сказано так сказано!..
Я зажмурил глаза и сделал десяток шагов к голове очереди. И даже набрал воздуху для произнесения короткой рубленой фразы. Но вдруг забыл, чего такого высокого и значительного хотел сказать.
Понимая, что время выхода на сцену может быть бездарно упущено, я сказал первое, что пришло в голову.
А в голову мне, конечно, вскочила очередная фразочка из Георгия Ивановича боцмана Куницына.
– Солженицына издавать надо. Это наша ошибка, что мы не издаем Солженицына.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу