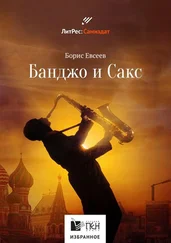Трудности эти сильно отличались от скрипичных. Да и лежали в другой области: я занимался перепечаткой запрещенных книг. Такие книги надо было доставать, затем быстро перепечатывать. Это было не очень легко, а порой и просто-таки трудно.
Вот как эта самая перепечатка происходила.
На Таганке, на Воронцовской улице, в доме № 6а, в тихом и заросшем всем чем только можно дворике, перед раскрытым окном, в этот дворик выходящим, мы с моей тогдашней спутницей быстренько расчехляли взятую напрокат пишущую машинку. Я начинал диктовать, а она плавно, но и по-скрипичному звонко ударяла по клавишам… Чудо возникновения из небытия настоящего текста начинало свой долгий, изломанный, но ничуть не утомительный лёт!
К концу сентября мы напечатали начатые еще в прошлом учебном году цветаевский «Лебединый стан» в четырех экземплярах, «Избранное» Осипа Мандельштама, включая стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны», в четырех экземплярах (я сам «Избранное» из дефектных списков составил, при этом, как позже выяснилось, сильно Мандельштама отредактировав). Были также перепечатаны и переплетены немаленькие «Роковые яйца» (с особой сладостью вписывал я в машинопись некоторые латинские слова и выражения, вроде «curriculum vitae») и стыло-обморочный булгаковский «Морфий».
На очереди была «Правая кисть» Солженицына, с трудом выисканная через одну институтскую знакомую. Бледно-фиолетовая в чьей-то неумелой пересъемке франкфуртская «Кисть» сильно грела душу будущими восемью экземплярами.
Здесь же, на Таганке, лежал изданный в Париже «Багровый остров» (его мы хотели дать в двух экземплярах)…
Но тут вдруг поперек великолепно-недосягаемых и законченно классических слов я стал диктовать нечто собственное.
О-Ё-Ёй поначалу сильно смутилась и даже разнервничалась. Но быстро освоилась и стала в охотку изображать на бумаге мои вздохи и выкрики.
Тут уж смутился я. Слишком легко приняла она мои бормотанья!
Прекратив диктовать, я стал посреди запрещенных текстов или – так казалось – прямо сквозь них, как сквозь высокую траву, уходить с чистым листком за шкаф. Я исписывал этот листок вдоль и поперек. Потом писал между своих же строк, остерегаясь взять новый лист или протянуть руку за тетрадью: все в один миг могло кончиться. Слово было эфемерно-летуче – как музыка, неприступно, – как философия!
Разбирать исписанный в разных направлениях текст было трудно. Спутница моя и сотрудница заскучала.
Да к тому ж машинопись нас уже не устраивала! Хотелось настоящих, днем и ночью гудящих типографий, хотелось офсетной печати, безотказно работающих станков, хотелось блескучих обложек и заливистых фамилий поперек них!
Может, как раз не имея всего этого, я и стал разыгрывать перед О-Ё-Ёй нечто невообразимое: на первый взгляд вполне театральное, но не исключено что и киношное.
«Легкий кинематограф прозы» – так называл я про себя ту смесь книгопечатанья, выкриков, жестов, пародирования известных политдеятелей и артистов. Правда, суть «кинематографа прозы» была не в прыжках. Она была в другом.
Ух, как высока и недоступна была эта суть! И как я ее за эту недоступность любил!
Откинув редкую занавесочку, я выступал из-за перегораживающего комнатенку надвое шкафа и минуту-другую молчал. Да-да! Ведь «легкий кинематограф прозы» на то и легкий, чтобы происходить нечуемо внутри тебя и лишь позже, после хорошего бурления и «отстоя», выплескиваться наружу.
Вслед за молчанием, вольготно разместив в себе два-три прозаических куска, покрутив в воздухе ручкой невидимого киноаппарата и пострекотав языком, я начинал читать куски вслух. От спутницы моей и сотрудницы требовалось не только угадать автора, но и быстренько включиться в действие. То есть стать соавтором, со-редактором и даже со-постановщиком этих прозаических фильмов-спектаклей.
Я выкрикивал несколько фраз, вставал на руки и трагически замолкал.
– Чехов? – неуверенно спрашивала О-Ё-Ёй.
Я возвращал себя в исходное положение, то есть опускался на ноги и хватался за голову. Потом, ища понимания, выкрикивал еще несколько фраз и изображал жестами растущую из ушей и глаз неаккуратно разбросанную в стороны пророчью бороду.
– Солженицын? – с надеждой ухватывалась О-Ё-Ёй за бороду.
Я стукал себя кулаком по темечку, мелко плевал в воздух и произносил еще один прозаический период, сопровождая его верчением тела вокруг собственной оси.
– Достоевский, – утверждалась О-Ё-Ёй в своей тоске и печали, и ее разочарование доходило до предела.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу