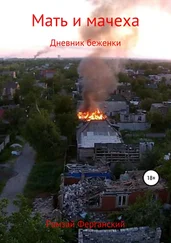Так распахивает сердце свое поэт, отдавая нам самые глубинные, самые потаенные, самые сокровенные, еще трепещущие чувства.
Может быть, наш незадачливый герой (поскольку поэт) и сам рассказал бы когда-нибудь о своих радостях и печалях? Но ждать нам, право же, недосуг. Вот почему мы тоже пометили его легонькой рыжей крапинкой и теперь с какой хочешь высоты найдем блуждающую точечку среди суетливой городской толпы.
Трудно было бы разглядеть хоть какую-нибудь целесообразность и разумность в замысловатом движении Дмитрия по переулкам и улицам. Из переулка в переулок, из переулка в переулок (куда глаза глядят, что ли?) он шел, бормоча под нос, размахивая иногда руками, задевая иногда даже и за редких, даже и за случайных прохожих. Но если бы не полениться и понаблюдать подольше, все же можно было бы заметить, что общий его маршрут все время замыкался в круги и что каждый новый круг все уже и уже прежнего.
Почти дойдя до воображаемого нами центра (то есть до дома с кирпичным забором в глухом дворе), помеченный нами человек вдруг бросался по радиусу вдаль, чтобы снова плести круги.
В конце концов он угомонился на квартире своего однокурсника Глеба Пригородова. У Глеба сидел уж и другой Митин однокурсник, Виталий Солодов. Как-то так получилось давным-давно, что, если выпить под настроение, именно под настроение, а не просто со стипендии, всегда сходились Виталий, Дмитрий и Глеб.
Глеб единственный москвич из этого триумвирата. У него и книги в шкафах, и радиола с множеством интересных пластинок. Комната прокурена до горечи. Горечь застарела, накопилась годами. Для окурков огромная (почти ведро), обрезанная наискосок, гильза снаряда.
Дмитрий сам начал копаться в пластинках, выбирая то, что ему казалось по сердцу.
— Подожди, — остановил его Глеб, — редкая пластинка Вертинского.
Полустертая запись издалека, из-за тысячи верст, из другого, невероятного мира, доносила притворные ли, истинные ли страдания и жалобы певца: «Одному не поднять… А другим — не понять… Остается застыть и молчать».
Пока звучала стонущая мелодия песенки, Дмитрию казалось, что никакие слова, никакая музыка не могут точнее выразить его теперешнее состояние. Но, когда всю комнату наполнил голос знаменитого итальянца и когда итальянец подпустил слезу в свое знаменитое «Смейся, паяц» (хотя бы и на итальянском языке), у Дмитрия перехватило горло и, пожалуй, именно в эту минуту он почувствовал приближение следующего (после стекол) сотрясающего внутреннего толчка.
— Нет, нет, — предлагал между тем Глеб. — Вот интересная пластинка. Поет хор Соколова из «Яра». Про него песенка есть: «Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит». Тот самый. «Позарастали стежки-дорожки». — Глеб любил многозначительно поднимать палец около виска. — Пустяковая песенка. А что надо-то? В ресторане. Что надо-то? Надо, чтобы душу разбередить. Идет человек со службы, зашел на полчаса. Выпил сто грамм, задумался. И вдруг — цыганская воля, разгул, тоска. А, трын-трава, пропадай все пропадом! Вот зачем нужна ресторанная музыка. А когда в ресторане играют «Катюшу», такая скука возьмет, последние сто грамм не выпьешь, так уйдешь. Вот пустячок ведь «Позарастали стежки-дорожки», они ее переделали, конечно, слова свои. Ну, и трактовка… Слеза, надрыв, трагедия.
С каждым словом Глеб все выше поднимал многозначительный палец.
— В каждом человеке сидит трагедия. Важно ее разбередить.
Пластинка зашипела под иголкой. Нелепые, пошлые слова. Знакомый примитивный мотивчик:
За стеначками, за дверачками
Стоит кроватка с подушечками.
На той крова-а-тке Ол-ля лежала,
На правой ручке Колю держала.
— Почему! — вскочил, протестуя, Виталий. — Почему такая чепуха бередит мне душу?
Идет мой милый, с утра он пьяный,
Открой мне двери, моя кохана,
Открой мне двери и-и-ли оконце,
Люблю тебя я, ты мое солнце…
— Хулиганство! Наваждение и ложь! Но, пожалуй, нет ведь другого случая, где настолько уж пошлые и пустые слова пелись бы с такой надрывной тоской и болью.
— В этом фокус. Соколов был артист. Все идет вроде бы на улыбке. На чепухе. Он улыбается, певцы улыбаются, слушатели улыбаются. А потом вдруг всем хочется плакать. Неизвестно отчего.
— И выпить.
— Сейчас дозреем…
«Позарастали м… о-хом, травою…» — мощно выдохнул хор, прежде чем остановилась пластинка. Друзья переглянулись.
— Пошли.
Началось с тяжелого, символического может быть, Дмитриева падения. Мать, Пелагея Степановна, когда сыночек уходил на чужую сторону, передала ему на сохранение (и вроде уж получилось, как талисман) золотой николаевский червонец, доставшийся от бабушки Василисы. «Береги, — говорила мать, — рази уж с голода помирать станешь…»
Читать дальше