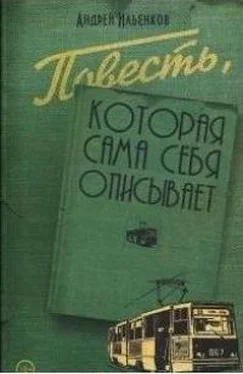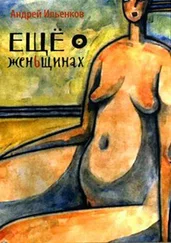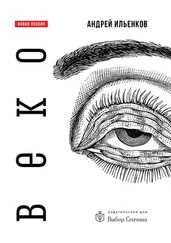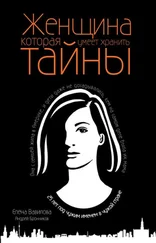— Хей, Стива, кисс ми ин май асс! (Хэй, Стива, поцелуй меня в мою задницу!)
— Вот ду ю вонт?! (Что ты хочешь?!)
— Лук эт зе ступид бой! Кисс ми ин май асс! (Блин, дубина, целуй меня в жопу!)
— Кисс е асс? Ай шелл фак е асс! (Поцеловать? И больше ничего?)
— Фак еселф! (Ну уж ты сам как хочешь, а меня — только поцеловать.)
Ну и типа того. На более содержательный разговор их не хватило. А впрочем, что и возьмешь с американского языка.
В восьмом доме они нашли квадратную стеклянную чернильницу и ручку с ржавым железным пером. Каждый из двоих отразил эту находку по-разному. Стива вспомнил, как он писал письмо генсеку.
Западные ребятишки, говорят, то и дело пишут письма Санта-Клаусу. Советские, возможно, тоже пишут Деду Морозу, но у нас это меньше развито. С другой стороны, советские нередко писали письма генсеку.
Стива учился в первом классе со второй смены. И у него в подъезде, еще на той, старой, лошарской (клошарской) квартире, случайно образовались приятели — брат и сестра, второклассники Ленка и Мишка. Барановы. Они тоже учились со второй смены. С утра пораньше Кирилл приходил к ним, и они до обеда валяли дурака, предавались праздности и пустым развлечениям. А праздность, как известно, мать пороков. И вот однажды они докатились до того, что написали письмо генсеку. Они взяли тетрадный листочек и с диким хохотом написали на нем: «Брежнев дурак!!!» Вложили в конверт, надписали: «Москва. Кремль. Брежневу». Обратный адрес указывать не стали. Пошли на улицу и бросили в почтовый ящик. Потом Мишка, самый старший и опытный из них, вдруг спохватился, что все это нужно было проделывать в перчатках, чтоб не делать отпечатков. Но так или иначе, а ответа никакого не было. Странно, что у Стивы такие ассоциации при виде чернильницы и пера, ведь писали они нормальной шариковой ручкой.
У Кирюши же не возникло никаких личных воспоминаний, их заменил восторг созерцания самых настоящих чернильницы и ручки с пером. Ну да, не гусиным. Но пером с чернильницей. Кирюша заплакал от умиления и отчаянья. Стива утешал его, но Кирюша не утешался, потом дал тумака, и Кирюша заплакал еще сильнее, а тогда Стива опять его утешил, и Кирюша утешился.
В девятом доме они нашли бабу голую. На картинке висела на стенке. И Стива неожиданно рассказал Кирюше о своей связи с одной молодой колхозницей на сеновале прошлым летом. Они с батюшкой поехали куда-то в область, а там жили некие батюшкины дальние родственники. Были там всего-то несколько часов. Но Стива успел. И она была беременна на седьмом месяце, и она была его родственницей! Но конечно, очень дальней. Как говорится, вшивой и сифилисной. И она была совсем голая, а Стива остался в одних носках, и было беспрецедентно жарко и потно от раскаленной железной крыши сеновала, и Стива то и дело соскальзывал с ее крупного потного живота и заваливался в труху, и даже нарушалась связь. Но ничего, каждый раз ее быстро восстанавливали. Стива любезно добавлял, что баба была очень вонюча.
— Ну вот видишь, а пейзанок хаешь!! — проворчал Кирюша с тоскливой завистью.
— Да я не хаю, просто чего хорошего-то?
— Того, что они дают! — свирепо сказал Кирюша и энергично захрустел сапогами по мерзлой траве к десятому дому.
В десятом доме они нашли эликсир жизни. То есть настойку женьшеня. Целых три фанфурика. Ну и высмоктали.
В одиннадцатом доме они нашли смерть.
Глава двенадцатая. Один день ягавой бабы
Ты перед ним — что стебель гибкий,
Он пред тобой — что лютый зверь.
Не соблазняй его улыбкой,
Молчи, когда стучится в дверь.
А если он ворвется силой,
За дверью стань и стереги:
Успеешь — в горнице немилой
Сухие стены подожги.
А если близок час позорный,
Ты повернись лицом к углу,
Свяжи узлом платок твой черный
И в черный узел спрячь иглу.
И пусть игла твоя вонзится
В ладони грубые, когда
В его руках ты будешь биться,
Крича от боли и стыда...
И пусть в угаре страсти грубой
Он не запомнит, сгоряча,
Твои оттиснутые зубы
Глубоким шрамом вдоль плеча.
А. Блок. «Девушке»
Началось все еще второго дня, а этот день был воскресный. В самом прямом и поэтому очень плохом смысле. Вчера ягавая баба, морда жилиная, нога глиняная, проснулась, как обычно, ни свет ни заря — в четыре часа утра, у себя на пече, на девятом кирпиче. Зевнула и поскрипела зубами. Звук, однако, получился будто бы неладный? С поразительным для ее лет проворством она соскочила с пече, накинула на голое тело ягу из жеребячьих шкур (другая яга, из неблюя, лежала в сундуке) и, прихрамывая, подошла к двери.
Читать дальше