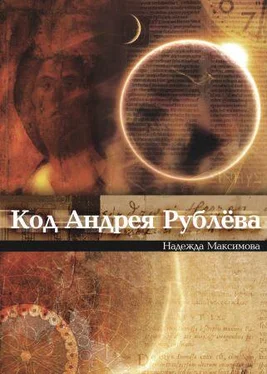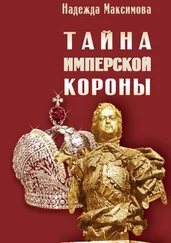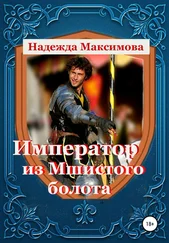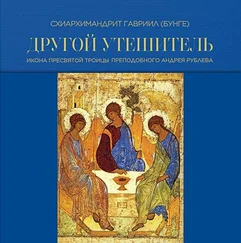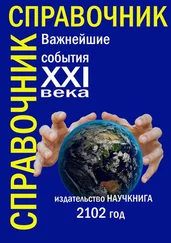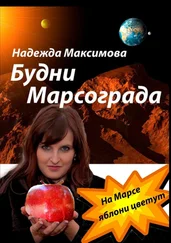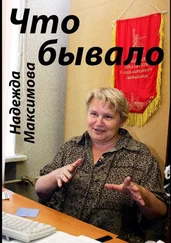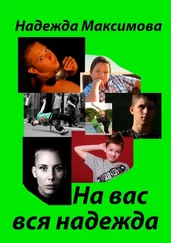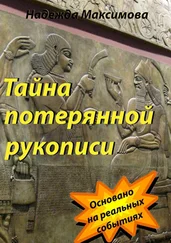— Нет ничего легче, — хладнокровно ответил Иван. — Читается «Ма-Руся». Где «Ма», как это известно еще с древнейших времен, означает «мать богов». А окончание «Руся» самоочевидно и не требует комментариев.
— На все есть ответ, — насмешливо восхитился Егор Николаевич. — А вот как вы объясните следующее: насколько я знаю летописи, по своим морально-этическим качествам Андрей Боголюбский далеко не дотягивает до Христа.
Ваньку подобными заявлениями было не смутить.
— Те, кто распял Иисуса, тоже считали, что он «далеко не дотягивает». Или вы думаете, что они видели его доброту, его божественную сущность и все же терзали и оскорбляли его? Да в конце концов еще и распяли? Нет, они были озлоблены, он казался им врагом, злодеем… Кстати, у чешского писателя Карела Чапека в серии «Апокрифы» есть рассказ «Пять хлебов», где показано, как добропорядочный и законопослушный гражданин приходит к мысли, что нужно выйти на улицы и кричать «Распните его!»
— То есть вы считаете, что историю Андрея Боголюбского писали те, кто был его политическим противником?
— Именно. А если отбросить эмоции и исследовать только фактическую сторону летописей, то среди фактов жизни Христа и князя Андрея мы обнаруживаем множество совпадений. Ну, это подробно описано у классиков.
Иван поймал вопросительный взгляд собеседника и снисходительно пояснил:
— У Носовского и Фоменко.
— А как насчет географии? Боголюбский — это Владимиро-Суздальская Русь, а Христос — это Иерусалим и Палестина. Довольно далеко, не находите?
— Ну, во-первых, князь — это вам не крестьянин, который никогда не удаляется от своей пашни. Правитель достаточно свободен в перемещениях, и не обязан сидеть в своем уделе, как вбитый гвоздь.
Кроме того, в Евангелиях подробно описаны только детство Христа, а потом сразу его вход в Иерусалим и три года, которые он провел там. Таким образом, имеем серьезный пробел в жизнеописании, что породило различные версии о «потерянных годах Иисуса». Некоторые исследователи даже утверждают, что эти неизвестные «потерянные» годы Христос провел в Индии.
— А вы, конечно, считаете, что Индия или точнее ИндЕя — это Россия.
— Кхм, — раздельно произнес Иван. — Да, мы так полагаем. Но доказывать это я вам не буду — все уже сделано Носовским и Фоменко и другими исследователями, в частности Георгием Михайловичем Герасимовым. Мы лично не намерены бесконечно повторять то, что уже сделано до нас предшественниками. Мы намерены идти вперед.
— Сильное заявление, — заметил мой одноклассник.
Иван не ответил, но сделал морду лица в том смысле, что «А вы как думали!»
— Ну что же, — сказал работодатель и заказчик, откидываясь на спинку кресла. — Я думаю, пришло время выслушать ваши впечатления и предположения, которые по тем или иным причинам не вошли в отчет. Вы ведь наверняка задавали себе вопрос: а почему собственно сугубо христианским рельефам Дмитриевского собора приписывают какой-то непонятный языческий смысл? Я прав?
— Безусловно правы, — принял эстафету безукоризненно вежливый Али. — Мы предположили, что причина — в церковной реформе, проведенной во времена первых Романовых, то есть в XVII веке.
Официальной датой постройки Дмитриевского собора считается 1197 год, а значит он заведомо должен был нести в себе черты дореформенного христианства. То есть то, что в ходе реформы было отменено, заменено или уничтожено.
— Продолжай.
— Мы предположили, что изначально иконостасом служили не внутренние стены храма, а его внешние поверхности. И богослужение проходило не внутри, а вокруг священный место. Возможно, отголоском этого является то, что и до сих пор пасхальное богослужение — богослужение в честь Иисуса, начинается крестным ходом вокруг храма и затем молитвами перед закрытый дверями.
Кстати мы, в ходе фотографирования и изучения рельефов на стенах собора, фактически совершили крестный ход.
— Хм… Но зачем проводить богослужения на улице, если имеется готовый храм?
— О, это отдельная большая история, — вступил Иван. — В Интернете мы нашли статью некого А. Денисенко. Он рассматривает технологию построения собора, с точки зрения инженера-строителя. И приходит к выводу, что архитектура любого действительно старинного собора на Руси организована так, словно внутри, в самом центре, должен был гореть священный огонь.
Денисенко пишет, что «первая, лежащая на поверхности мысль при попытке обосновать конструкцию белокаменного храма — дымоход! Большая высота, сужение кверху, отверстия в верхней части, перекрытие металлическим «навесом», скругленные своды, пустое пространство в центре пола — ну, чем не очаг!»
Читать дальше