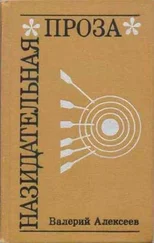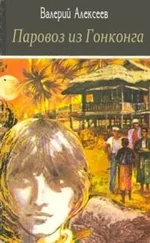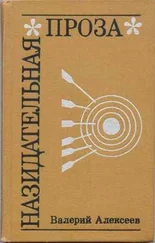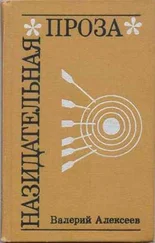"Погодка". Я поднялся, подошел к окну, ухватился за холодный подокон ник, выглянул во двор. Да, это был мой дом, вне всяких сомнений, а что я ожидал там увидеть? Готические крыши? Немецкие стены, облицованные черной шиферной чешуей? Окно выходило во двор, обстроенный по периметру пятиэтажными панельными коробками, безобразно раскрашенными в салатный и светло-яичный цвета. В подобных домах, лишенных черепной крышки, и должны обитать такие, как я. Двор заполнен был морозным дымом, и небо над коробками стояло бледное, безоблачное, обещавшее долгие холода.
– Градусов двадцать, – с натужной беспечностью ответил я.
– Выше нуля? – осведомился Иван Данилович.
– Зачем же выше нуля? – ради убедительности я пожал плечами. – Резкое похолодание, типично для конца ноября.
– Резкое похолодание, конец ноября, – повторил старик. – А год, извините за назойливость, какой?
– Девяносто первый.
– Простите? – Он приложил трясущуюся руку ковшиком к уху, хотя по лицу его видно было, что он прекрасно расслышал, только ответ мой был ему неприятен, и он надеялся на другой.
– Тысяча девятьсот девяносто первый, год белой овцы.
– Все еще девяносто первый, как медленно время идет, – ровным голосом проговорил Иван Данилович и погрузился в оцепенение.
Я думал, он задремал с открытыми глазами, старики частенько этот фокус проделывают, но тут Иван Данилович поднял голову, посмотрел на меня и с не естественной деловитостью осведомился:
– Ну, и что там новенького?
– В каком, собственно, смысле? – садясь на место, спросил я.
– В самом прямом, любезнейший Евгений Андреевич, – слегка порозовев от подавленного негодования, ответствовал старик. – Я ведь не спрашиваю ничего неприличного и, кажется, имею право рассчитывать на человеческий ответ. Мне совершенно безразлично, например, как вы здесь оказались, дело ваше, молодое, не смею встревать. Зачем же иронизировать?
– Да вовсе я не иронизирую, что это с вами? – возразил я. – Вопрос ваш неясен, только и всего. Что значит "новенького"? За какой период?
– Ну, скажем, с сентября прошлого года, – помедлив, сказал старик.
С сентября прошлого года. А что такого было в сентябре прошлого года? Анюта вернулась из Лихова осунувшаяся, взвинченная, чужая, начались ее, загадочные ночные телефонные переговоры. Да, каждый вечер она забирала телефонный аппарат к себе в комнату, и я через стенку слушал ее монотонные односложные реплики: "Да, нет, не знаю, ну и что? Не хочу, нельзя, как знаешь, и что дальше?" Душа моя плакала кровавыми слезами, я чувствовал, как из этих длинных разговоров вокруг меня свивается жесткая, ворсистая петля. Но старика, естественно, интересовали внешние события: Павловская реформа, августовский путч и прочая чепуха, жизненно важная для социально активных стариков.
– Слишком долго рассказывать, – сухо ответил я.
Иван Данилович, должно быть, устал негодовать.
– Так много перемен? – с принужденной беспечностью спросил он. Что, реформация вылилась в крестьянские войны?
Я снова пробормотал нечто вроде: "Тут ведь как?"
– Ладно, успеется, – сказал Иван Данилович и живо поднялся. – Не стану более вас утомлять.
И порывисто, пружинистой юношеской походкой направился к дверям Но меня не обманула эта решительность, я предполагал, что так просто старик не уйдет, – и не ошибся.
– Да, кстати, – проговорил Иван Данилович, взявшись за ручку двери, обернулся, глядя при этом мимо меня, – чуть не забыл. Не найдется ли у вас свежей газетки? Понимаю, что не сегодняшней и даже не вчерашней, пусть хоть недельной давности. Скучно, знаете ли, без центральных убеждений.
Жадное нетерпение, прозвучавшее в его голосе, лучше всяких слов свидетельствовало, что только за этим он, собственно, и пришел. Мне не жалко было бы поделиться с ним чтивом, но, увы, старик явился не по адресу: я уже давно не читаю газет. Мне противны все эти скоротечные эпохи, судьбоносные для кого-то подвижки, мне чужда философия дискретной, прерывистой жизни. Я шкурой своей, на горбу своем ощутил (в восемнадцать, да, в восемнадцать), что жизнь моя (а другой у меня нет) – что жизнь моя органически неделима и что никакие ее перестройки не принесут мне избавления от меня самого. Но поди-ка объясни это старику. Бывший учитель бывшей истории, он всю жизнь доказывал противоположное: что главные события происходят не внутри человека, а вне его.
Я машинально оглядел комнату. Последним периодическим изданием, которое я держал в руках, был "Шпигель", на обложке которого изображен был Президент Союза в рубище, с огромной шляпой в протянутой руке и с невыразимой печалью в глазах: что-то я зачитывал оттуда на лекции, демонстрируя студентам извивы немецкого газетного языка.
Читать дальше