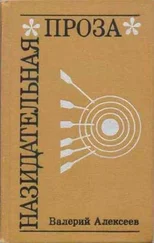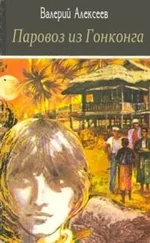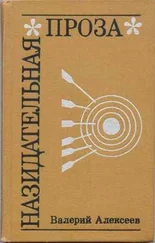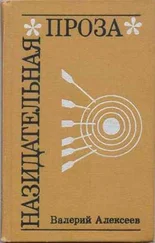Мне виделись сонмища душ: кроманьонцы, шумеры, античный веселый народ, жертвы инквизиции, узники недавних концлагерей. Я надеялся увидеть здесь – хоть издалека – Александра Великого и Аттилу, Кромвеля и императора Петра. Я не льстил себя надеждой, что буду удостоен общения с Мильтоном, Лютером или Кортесом, но уж вавилонским разноязычьем сумею насладиться вполне. Глупая медсестричка, она меня уверяла, что пациентов здесь раз-два и обчелся: просто она нелюбопытна. Да и в самом деле: что ей Наполеон?
Сама по себе вечность меня не страшила. Слово это имеет пугающий смысл лишь для тех, кто в простоте душевной делит время на настоящее, прошлое и будущее. Нет ничего глупее этого заблуждения. Прошлое не является частью времени: время – огонь, пожирающий реальность, прошлое – зола и уголья этого костра. Будущее – это тоже не время, это лишь предчувствие времени, принадлежащее настоящему и являющееся одной из его изменчивых форм, точно так же, как и прошлое, живя в нашем сегодняшнем представлении, принадлежит исключительно сегодняшнему дню, нам ли, русским, этого не знать? Воображение и память – вот пляшущая оболочка, окружающая наш жизненный костерок, а за этой пляской отблесков – непроглядная темень, даже не темень, хуже, просто ничто. Время – это то, что сейчас, это огонь, который горит, пока горит, а погасший огонь – это, согласитесь, уже не огонь. Чем же отличается ваше время от моей вечности? Только тем, что мой костер уже никогда не погаснет.
Сказанное вовсе не означает, что при жизни, на эмпирическом, так сказать, уровне я времени не членил. Как и все люди, я жил в разлинованном пространстве-времени и свою жизнь делил на периоды, имевшие, естественно, только воображаемый смысл, но для меня значившие куда больше, чем все этапы и эпохи древней, новой, новейшей и наиновейшей истории. Одна минута моей жизни могла бы быть приравнена по значимости ко всем балканским войнам, сколько их было и будет. Что уж тут говорить о целой загубленной жизни: все национальные конвульсии мира, вместе взятые, не перевесят чудовищной тяжести погибшего с одним-единственным человеком мироздания, да чтобы просто уравнять на весах единственную жизнь – нужна вся Вселенная, ни больше, ни меньше. Воистину, господа: не породил еще человеческий дух такой идеи, во имя которой можно было бы загубить хоть одну человеческую жизнь. Это я вам говорю отсюда – и знаю, что говорю.
До маминой болезни (точнее, до того месяца, когда она вступила в обвальную фазу) я жил в блаженном неведении, уверенный, что я такой же, как все остальные, – ну, может быть, чуточку более капризный, болезненный и плаксивый. Я копошился в своих небогатых игрушках, со страхом готовил себя к великому таинству школы – и не подозревал, что взрослые все чаще и чаще с тревогой и жалостью на меня поглядывают. Какую-то боль в позвоночнике я ощущал уже тогда, но откуда мне было знать, что эта боль другим детям неведома, что рибосомы моих клеток уже начали, гримасничая, разбирать по складам страшную инструкцию, зашифрованную в моем генетическом коде. О, будьте вы прокляты, мои предки, зачавшие первого ублюдка, который, выросши, возжелал продолжать свой род – и в этом преуспел. Если бы генетический код предписывал постоянное, от отца к сыну, воспроизведение уродства, череда монстров скоро оборвалась бы, так нет же: со злонамеренным любопытством природа программирует мой проклятый род наподобие электронной игры, где монстр появляется там и тогда, где и когда о нем уже и думать забыли. Вот так явился на свет и я, для родителей мое уродство было совершенным сюрпризом. Сколько я ни пытался дознаться, ни в отцовском, ни в материнском роду в обозримых пределах монстров не значилось… впрочем, я говорю лишь о двух, о трех поколениях, дальше все было погружено в хамскую мглу беспамятства, там, ворча, рыгая и сквернословя, копошились сонмища тупых холопов, не помнивших и не желавших помнить родства. Там и зверское пьянство имело место, и кровосмешение, и снохачество, и людоедство. Вот за эти чужие грехи я и призван был сполна расплатиться – и подвести под ними черту.
Итак, мама слегла, чтобы уже не подняться. У нее был рак матки, страшные боли ее терзали, она стонала и бормотала: "Нет, нет, не надо, не хочу, не надо", – как тогда, в свои брачные ночи, но теперь уж отец был ни при чем, он сидел у ее изголовья, держал ее за руку и говорил тусклым голосом какие-то нелепые обнадеживающие слова. На меня уже никто не обращал внимания. А между тем и со мною начали твориться дела: я чувствовал, что во мне тоже происходит ужасное, что проклятая сила теснит мне грудную клетку, кривит позвоночник, притягивает затылок к спине, и из хилого низкорослого, но вполне ординарного мальчика с треугольным лицом я неотвратимо превращаюсь в урода. Мама знала об этом и, приходя в чувство, подзывала меня к себе, гладила меня по голове, по спине, я с тревогой, пытливо глядел ей в лицо и ощущал, как пальцы ее бегло и боязливо ощупывают мои позвонки.
Читать дальше