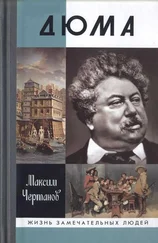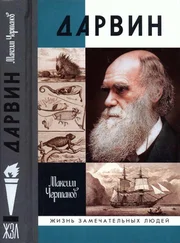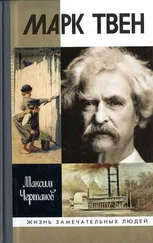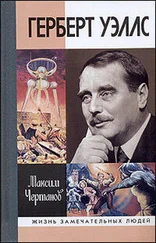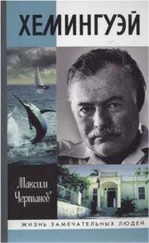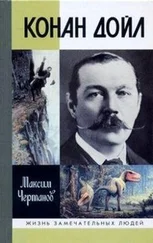— Володя, ты в порядке?
— Запутался я, Гриша.
— Что такое?
— Надя требует развода.
— Из-за Инессочки?
— Ну да.
— Странный ты человек, Voldemare. Ну что тебе не жилось с Надюшей? Она так вкусно стряпает. Чего еще можно желать от женщины?
— От женщины можно желать очень многого, друг мой. Тебе этого не понять. Представь, что... Нет, ладно, ничего не представляй. Ты мне лучше скажи, Гриша... Ты ведь все сплетни собираешь...
— Никаких я сплетен не собираю, — обиженно возразил Зиновьев. — А какие именно сплетни тебя интересуют?
— Ты ничего не слыхал о моей Наде? Зиновьев — этот распутный сапожничий сын,
шельма, вертопрах и обжора — все понимал с полуслова, за то Ленин всю жизнь и ценил его. Он ухмыльнулся и сказал:
— Ты хочешь знать, не таскается ли она с другими революционерами? Да вроде бы нет. Лева, правда, как-то видел ее с Анатолем... Они разговаривали весьма интимно.
— С Луначарским?! Не верю. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда... Брось-ка ты, Гриша, свой пасьянс. Давай лучше в подкидного перекинемся.
Невинная детская игра, как всегда, отвлекла Владимира Ильича от грустных мыслей и успокоила его нервы. Часа через полтора, когда нос Зиновьева уже совсем распух, — они играли, как всегда, на щелбаны, — тот начал хныкать и просить пощады. Ленин отложил карты, потянулся и проговорил уже весело:
— Дураком родился, дураком помрешь... Такая уж твоя планида, Гриша.
— Ты просто передергиваешь, — с легким укором сказал Зиновьев, разглядывая свое лицо в карманное зеркальце. Даже с красным носом и лиловым синяком он был по-прежнему смазлив — одни ресницы чего стоили — и, сознавая это, самодовольно улыбнулся своему отражению.
Владимир Ильич подозревал иногда, что от этих болезненных щелчков по носу его бессменный карточный партнер получает какое-то особое, непонятное здравомыслящему человеку наслаждение, но, в конце концов, это было его личное дело. Среди революционеров попадались люди с куда более удивительными привычками — например, Богданов с его постоянными разговорами о кровопусканиях и кровопереливаниях... «Да взять хоть того же Феликса: после парижских приключений он без скальпеля и из дому-то не выходит. А уж когда ему приходит охота посидеть в тюрьме — его сокамерники потом такое рассказывают о его затеях, что даже у меня язык не повернется повторить... Бичевания, распятия, терновые веночки, и чтоб гвозди непременно были железные... (Все это было злопыхательское вранье. Ничего подобного Феликс Эдмундович никогда не совершал, и уж во всяком случае не железными гвоздями.) Но что делать? Социальная революция невозможна без сексуальной. Я буду просвещенным монархом и не собираюсь вставать на пути прогресса». Чтобы проверить свою гипотезу, Ленин снова взял колоду карт и хотел было еще раз стукнуть Зиновьева по носу, но тот отстранился с недовольным видом. Тогда Ленин сказал примирительно:
— Никогда я в дурака не передергиваю, просто мне карта прет... Я вот иногда думаю: сбежать бы от них от всех на недельку... Засели бы с тобой в каком-нибудь шалашике и сутками напролет играли... Ох, Гриша, заболтался я тут с тобой. Мне пора. Инесса, наверное, уже давно вернулась с лекции.
Попрощавшись с Зиновьевым, Владимир Ильич сбежал по ступенькам на первый этаж, насвистывая сквозь зубы. Он уже собрался постучаться к любовнице и даже улыбку заготовил, но внезапно — о ужас! — до его слуха донесся пронзительный голос жены... Он замер, прислушиваясь: дверь была толстая, и он не мог разобрать ни слова. Потом Инесса что-то отвечала своим певучим низким голоском... Кажется, драки нет... Он тихо, ступая на цыпочках, вышел во двор. Пригнувшись, подобрался к окошку — ставни были открыты, кружевная занавеска колыхалась от ветра, — и осторожно глянул внутрь.
К его удивлению и облегчению, обе женщины сидели друг против друга за столом и беседовали довольно мирно, во всяком случае, в волосы никто никому не вцеплялся. В руках у Инессы было вышиванье; Надежда Константиновна суетливо щелкала замочком своего ридикюля.
— ...Хорошо также добавлять смородинный лист и укроп.
— Я непременно попробую сделать, как вы говорите, Надя.
— Жаль, что здесь нет хорошей рыбы. Эта Иветт по сравнению с нашим Енисеем и даже Сеной — просто лужа. Когда мы жили в Париже, я каждый день ходила на рынок и покупала свежую рыбу. Ильич очень любит уху.
— Надя, я так виновата перед вами...
— Ах, бросьте, милочка. Мы с вами цивилизованные, передовые женщины, и нам не пристало... Но расскажите мне про ваших деток... Вы, должно быть, страшно скучаете по ним.
Читать дальше