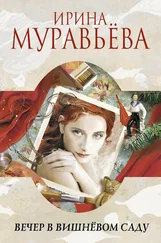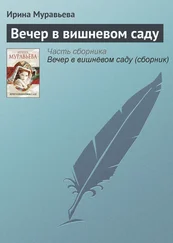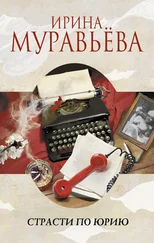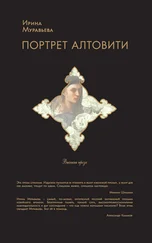Он был еще совсем маленьким, лет двух, не больше, и я принялась брать его с собой в церковь. Подносила его к Иверской Богоматери, и мы подолгу стояли с ним, смотрели. Когда он немного подрос, он спросил у меня: все ли матери на свете такие же добрые, как Она?
И я ответила: «Все».
Вчера прочитала в его тетрадке:
«Помню, как мы с мамой поехали в Тулузу. Мне было, если не ошибаюсь, лет пять. До этого дня, о котором я сейчас говорю, я был совершенно счастливым ребенком, но с этого дня я понял, что моему счастью все время будет что-то мешать, и нужно сделать так, чтобы забыть о том, что мне мешает, и снова любить мою маму по-прежнему».
В Тулузу мы с ним поехали ранней весною на две недели. Ему было не пять, а шесть лет, он перепутал. Туда же должен был приехать Коля и поселиться на старом постоялом дворе, переделанном в гостиницу. Мы уже несколько раз так поступали: я брала маленького Леню и уезжала, потом туда же, где были мы, приезжал Коля, останавливался неподалеку, и мы с ним встречались. Но прежде, до Тулузы, Леня был совсем крошечным и ничего не понимал, а тут он впервые заподозрил меня, потому что услышал наш с мамой разговор. Господи, я же все помню.
Я тогда готова была расстаться с Георгием, развестись, и если бы Коля был немного настойчивее, может быть, так бы оно и случилось. Уж очень мы плохо тогда, нервно жили. Теперь понимаю, что Георгий чувствовал все, что во мне бушевало, и был весь раздавлен, не знал сам, что делать. Я ехала к родителям не только для того, чтобы отдохнуть от наших скандалов, но втайне надеялась, что наконец-то познакомлю их с Колей, перетяну их на свою сторону, и все это сразу решится. Но когда я попала в свой дом, увидела маму и папу, таких постаревших, уставших ото всего, что им выпало в жизни, любящих нас и радующихся тому, что у меня все в порядке, есть муж и ребенок, – я сразу обмякла, поняла, что ничего не скажу, нет у меня ни сил, ни решимости причинить им еще одно горе, и сразу наступило душевное отрезвление. Я даже хотела дать тогда Коле телеграмму, чтобы он оставался в Париже, но потом не сделала и этого, просто махнула на все рукой: будь что будет.
В первый же вечер и произошел мой с мамой разговор сразу после чая, когда папа отправился на свою обычную прогулку, а Леня, набегавшись, спал на качалке. Я помню этот разговор так, как если бы он был вчера. Мы сидели на террасе, и мама – я помню – перетирала чайные чашки. Потом она спросила, что со мной, почему я такая грустная. И я ей тогда рассказала про Колю. Мама вскочила, стала шарить по всем карманам в поисках папирос, потом исступленно зашептала:
– Не смей! Не смей этого делать! Ты живешь с благородным человеком!
А я запальчиво ответила, что, кроме благородства, нужны и другие причины для того, чтобы жить вместе, а я вышла замуж за Георгия только потому, что они с папой все уши мне прожужжали, что он благородный человек.
Мама наконец закурила трясущимися пальцами, закашлялась и заплакала. Я и сейчас слышу, как она тогда сильно и горько плакала, и у нее тряслась голова, как у старухи. Потом она сказала, что они с папой прожили жизнь и хлебнули в ней, а я все готова сломать, никого не жалею. Я опять попыталась объяснить, что мой с Георгием брак – ошибка, которую можно исправить.
– Что значит – исправить? Как это – ошибка? Георгий – твой муж.
Открыла Священное Писание и прочитала:
– «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает все». [67]
Я помню, что после этого сразу замолчала, и мама тоже притихла. Догадалась, что я наконец ее услышала. Мы с Настей часто поражались тому, как она умеет ошеломить, оглоушить, сломать, а потом вдруг мягко, тактично отступить, отхлынуть, как волна, подобравшая свою пену и уступившая место другой волне.
– Сама все решай. Все сама. Не молодка. Вон мальчик какой! Ты о мальчике думай.
Она взяла на руки спящего Леню и понесла его в спальню. Я была уверена, что он ничего не слышал, а даже если бы и слышал, то что он мог понять, шестилетний? А он все услышал, запомнил и понял.
Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой
Лондон, 1937 г.
От Патрика уже три недели нет никаких известий. В последнем письме из Нанкина он написал, что между японскими солдатами происходят соревнования: кто за день обезглавит мечом большее число китайцев. Японцы жалуются, что к вечеру рука еле поднимается, до того тяжело делать одно и то же движение: рубить головы. Все это снимается на пленку. Патрик говорит, что постепенно все окружающие его люди – и даже он сам – привыкают к тому, что происходит, и становятся все менее и менее чувствительными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу