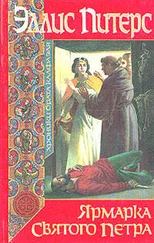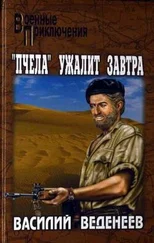– Конечно, одиночки, - сказал я.
С его помощью я нашел буфет, именовавшийся кафе, где и выпил свой чай, заев его винегретом , а также кефир, зажевав его коржиком.
Прыгая вниз по лестнице, я подумал - не прийти ли мне и вправду?
Дома я долго отпаривал выходные брюки, чистил ботинки. Пиджак одолжил я у двоюродного брата, рукава были чуть длинноваты. Галстук кузен мне завязал, я никак не мог научиться вязать галстучные узлы. Для галерки вид у меня был шикарный. А для первых рядов? Честно говоря, я не знал, как должна выглядеть публика из первого ряда. Дамы с чернобурками на плечах, увешанные и унизанные драгоценностями? военные? профессора? директора всех видов и фасонов? Во времена моей юности блатари не разыгрывали господ комильфо, не шлялись по театрам, разве что в цирк или в оперетку заносило их невзначай.
За полтора часа до спектакля, как договаривались, я зашел за Настасьей.
Я еле ее узнал.
– Подождите минуту, - она вышла, исчезла в комнате или в одной из комнат, а я остался соображать: что меня так удивило, что за звук незнакомый? и понял: шорох шелка. Шуршал шелк ее платья, сопровождая движения ее. Прежде я читал о шуршащем шелке женских одежд в старых романах.
Она вернулась. Теперь у нее на шее красовалась - как называется? горжетка? - но не чернобурка, нечто белое, пушистое, эфемерное, шкурка нездешняя, страусовый пух. Разодета в пух и прах. Она как бы не была и разодета, - темного шелка платье. Таких ослепительных дам видел я только в трофейных фильмах. Улыбаясь (очевидно, выражению моего лица), Настасья, отвернувшись к зеркалу, вдевала в уши сережки. Я лицезрел ее коротко стриженную черноволосую голову с затылка, в старинном зеркале мерцала улыбка ее. На гравюре «Любовники» Утамаро, увиденной мной много позже, я узнал этот затылок, сразу узнал, словно Настасья была бессмертная и Утамаро изобразил именно ее; хотя гейша в темном могла быть какой-нибудь дальней родственницей возлюбленной моей .
Она обернулась, ожидая комплиментов . Я был нем. Она ждала, чтобы я подал ей плащ. Я не шевелился . Она сняла плащ с вешалки, дала мне его в руки , повернулась ко мне спиной. Я подал ей плащ, борясь с невероятным искушением взять ее за плечи.
Вместо розового шарфа надела она фетровую черную шляпу, похожую на мужскую, затем сосредоточенно натянула крохотные перчатки, на тыльной стороне которых красовались оттиски то ли орхидей, то ли лилий. Мы вышли, она взяла меня под руку. Вместо комплимента я спросил: почему у нее такие узкие китайские глаза? Она ответила: «Я наполовину японка». Такси уже стояло у тротуара, я не только не имел понятия, что такси можно заказать на определенное время, даже накануне заказать, - но вообще еще ни разу не ездил в такси. Мы поехали по набережной Фонтанки.
Все происходило как будто не со мной, нереальные отсветы вечерних фонарей вспышками, дискретно, высвечивали маленький мирок внутри автомобиля, светлый ее плащ, черную бисерную сумочку, черные перчатки . В жизнь мою вошел фонарный свет .
Черноволосый с седыми висками моложавый полнеющий администратор, ловко отбивающийся от толпы желающих правдами и неправдами попасть на спектакль, обратил к нам печальное бледное семитское лицо свое с вечно утомленным томным взором, кажется, обернувшись на звон Настасьиных браслетов, встал ей навстречу, поцеловал ей ручку, добыл, точно факир из воздуха, заветную бумажку контрамарки и целую вечность, как мне показалось, разглядывал меня, молокососа (к тому же голодранца) при королеве; у меня уши горели; Настасья подхватила меня под локоть, потащила в соседнюю комнату, то был не гардероб, апартаменты администратора, блатные посетители снимали плащи свои и куртки тут.
В зале гасили свет, гасили постепенно, душа замирала, наступала минута между собакой и волком, мгновение театральных сумерек, между реальностью и театральным действом, миг предвкушения, лучший миг театра.
Полутьма, таинственный занавес сейчас откроется, Настасья катастрофически бледна, она катастрофически хороша, в удлиненной преувеличенной мочке нежной ее буддийского ушка сияет блеском рождественской елочной игрушки сережка . Настасья узкоглаза, но сейчас расширены глаза ее, сцена ее гипнотизирует, она не отрывает взгляда от занавеса, «как черный бархат, на котором горит сияющий алмаз, - вот что сравнил бы я со взором ее почти поющих глаз». Тогда я не знал этих строк, но глаза ее были именно такими, и взор такой, и сама она - провал черного бархата, мягкого, точно шкурка животного, - и холодный, переливчатый, острый, венчающий шкалу твердости блеск бриллианта. Я не ощущал желания, не чувствовал любви, не предавался влюбленности; я пропал!
Читать дальше