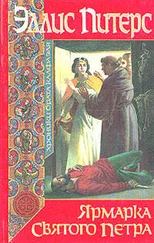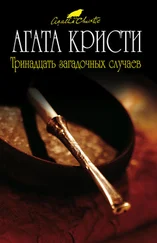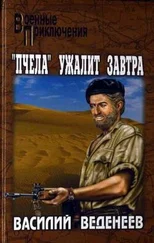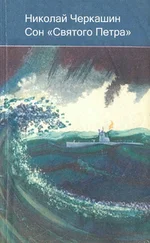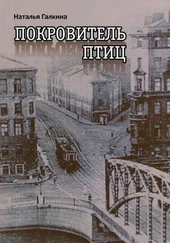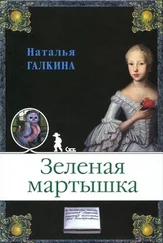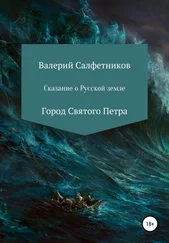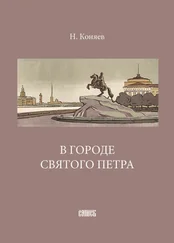То, что я увидел Настасью воочию, живую Настасью, наполнило меня забытым накрепко ощущением ожидания событий, столь характерным для молодости, для детства в канун рождественских каникул, для всякого влюбленного существа. Хотя, собственно, неясно было: чего это я такого ожидал? каких чудес? каких поворотов, фокусов, иллюзионистских трюков Судьбы? У меня вроде бы не было конкретных соображений на этот счет.
Состояние мое обращено было к моей встрече с Настасьей, как бы в обратном времени: так, противоходом к календарному потоку, я просуществовал достаточно долго. У меня появились новые наметки будущих статей и эссе, жизнь стала мне улыбаться, да я и сам стал улыбаться ей. Появилась у меня и очередная идея фикс, как у всякого автора (разделяемая мной со Звягинцевым, в некотором роде): Зимний сад.
После общения с бывшим соседом, «мудрым старцем» (всех прочих именовал он «агнцами»), я перестал видеть призраки городские - или петербургские привидения перестали жаловать меня, ни частные лица, персоны, так сказать, ни коллективные фантомы (типа «зеркальных»), ни архитектурные не являлись мне. Сначала меня радовала моя реалистическая жизнь, потом я стал видеть ее некоторую ограниченность, - а может, и ущербность, как ни странно.
Меня осенило, я решил восполнить свою потерю иначе: я задумал написать о зимних садах города, о зимних садах заснеженной ингерманландской военной столицы, некогда украшавших ее… и т. п.
Я выписывал сведения из разновременных и разностильных книг о зимних садах и оранжереях Петербурга: например, об оранжереях Бестужева-Рюмина на Каменном острове (влюбленного Понятовского вспоминая), превращенных в парковые павильоны, где цвели и плодоносили померанцы и апельсины, царствовали пальмы, а у входа в зимний был разбит голландский сад, окруженный живыми изгородями, зелеными стенами из вьющихся растений (несомненно, родственными вьюнкам беседки Гали Беляевой); или об оранжереях соединенных в единый ансамбль каменноостровских дач барона Штиглица и его зятя Половцова, кроме оранжерей , на даче Половцова в старой части дома имелся и зимний сад, обширная полуротонда с окнами от пола до потолка , в которые гляделись стоящие среди вечнозеленых растений мраморные италийские скульптуры девятнадцатого века, привезенные Половцовым то ли из Неаполя , то ли из Милана.
Я зарисовал стасовский Зимний сад, находившийся некогда в пристройке посередине галереи над посольским проездом вдоль залов Невской анфилады, его крошечный фонтан с большой чашею, его пальмы, монстеры, второй ярус, стеклянный потолок. Рисовал и сменивший его штакеншнейдеровский Зимний сад в Малом Эрмитаже, занимавший вроде бы часть территории открытого Висячего сада. Фонтаны на сей раз напоминали Бахчисарайский: белый мрамор, три яруса чаш, каскад. Фонтаны и фрагмент сада я несколько раз видел во сне, меня так поражал сон с Зимним садом Малого Эрмитажа, сам вид фонтанов, что сюжет сна я тотчас забывал.
В тот период мне стала сниться Настасья.
Срисовывая акварель Луиджи Примацци «Зимний сад», датированную 1838 годом, я с удовольствием списал и комментарий: «Местонахождение неизвестно». Почему-то я был совершенно уверен: передо мной уголок каменноостровской дачи Половцова (возможно, из-за статуй).
Над столом моим висели фотографии реконструированных в девяностые годы прошлого века Красовским Зимнего и Висячего садов Эрмитажа.
Настасья, помнится, рассказывала мне, что в ленинградских школах были живые уголки, маленькие жалкие живые клетки уничтоженного организма, клочки зимних садов, цветы в горшках, увитые плющом стенки, томящиеся в вольерах лисы, ежи, мыши, птицы. Хорошие ученицы допускались в качестве поощрения мыть листья, поливать цветы и чистить клетки.
Сейчас в Висячем саду Эрмитажа цветет редкой красоты сирень.
Я собирал образ Зимнего сада по кусочкам, как современные дети собирают головоломные мозаичные картинки, которые мне явно не по зубам. Дошло до того, что в рекламной газетенке попалось мне объявление: «Окна, двери, витрины, беседки , зимние сады производства Англии. Только у нас!» И я все рвался съездить на неведомую мне улицу Шаумяна - посмотреть зимние сады производства Англии, да все не получалось, пути не было.
Прочитал я множество произведений о садах, настраиваясь на образ неуловимого архитектурного призрака: «Поэзию садов» Лихачева, Леконта де Лиля, например; читал о садах японских, об английских парках, о ландшафтных французских парках. В журнале «Домус» выискивал я статьи о садах, даже выписывал одно время французский журнал «Дом и сад», откуда выписывал, переводя их с лету наспех, следующие сентенции (не знаю зачем): «В большом саду можно странствовать, переходить от одних впечатлений к другим. В маленьком саду следует запечатлеть одно-единственное впечатление. Рассказать одну-единственную историю». Луи Бенеш. Кажется, этот Луи Бенеш - один из известнейших современных садовников-аранжировщиков. «Наш сад, - переводил я романтическую статью молодой журналистки Мари-Франсуазы Валери (не родственницы ли поэта?), - будет освещен, как театр, в нем будут мизансцены , как в театре, в нем будет игра света и тьмы, в нем будут задники и софиты, имитирующие звездную ночь. Чтобы сменить планету и улететь!»
Читать дальше