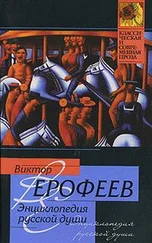<>
Пора теперь хотя бы что-нибудь сказать по существу. Я и так уже опаздываю с итогами детства. Так вот, перед тем как я поступлю в университет, обзаведусь первым устойчивым влагалищем и наконец влюблюсь, поговорим о тайнах.
Распадение фантазий на дневные — дорожные, игрушечные — и ночные, связанные со страхом, в конце концов привело меня к творческой шизофрении, моему расколу на дневное мышление категориями и ночное — бредовыми образами. Детские страхи выплеснулись за неимением веры на бумагу, это было спасительное испражнение, не требовавшее никакого сочувствия или поддержки, это было освобождение.
Тем не менее этим дело не ограничивалось, точно так же, как и — впоследствии — моим отцеубийством. Там была еще какая-то более глубокая, прочная тайна, связанная с переключением энергии. И отцеубийство, и освобождение от фобий подразумевает творчество «из себя», самовыражение, которое не укладывалось в тайну, которое я ворошил только поверхностно, сохраняя тайне верность. Есть много спекуляций, связанных с этой тайной, которые превратили ее в общее место метафизических томлений. Кому ни лень, все говорят о том, что творческая энергия берется извне. Собственно, это и есть талант — пропустить через себя энергию. Творчество «из себя» есть в лучшем случае имитация. Творчество «извне» не обладает гарантированным характером, с годами не улучшается, а скорее испаряется. На его место приходит самоповторение.
Творчество «извне» благосклонно к общему стилю времени, то есть общается на уровне современных понятий, у него всегда сегодняшняя биосфера. Но оно оказывается вне модных конструкций, имеет двойственные отношения со временем, точно так же, как и с человеческим смыслом, отчего плохо доступно переводу — пример: Пушкин — на другие языки. Перевод делает его в лучшем случае изящным собранием тривиальных истин.
Смешение двух этих разновеликих понятий было всегда, но особенно все перемешалось в XX веке, когда была сорвана метафизическая крыша. Творчество «из себя» обладает большими эстетическими возможностями, с его достижениями я неоднократно имел возможность сталкиваться. Однако тайна заключалась в моем превращении в носитель, способный воспроизводить иные возможности и другой мир. Превращение в носитель давало редкие моменты реального экстатического состояния, когда твой текст уже не принадлежит тебе, и, глядя на него, испытываешь удивление: ты ли написал? Меня никогда не привлекал формализм даже в своем запрещенном виде. Ни Тартуская школа, ни французский структурализм никогда не казались мне движением к раскрытию тайн. Там была только задача: как сделана «Шинель»?
Но я чувствовал, что «Шинель» не делается, что писатель — не мастер, в отличие от того, что считал Михаил Булгаков. Писатель — взбесившийся будильник, который звонит, чтобы мир проснулся, и он заведен не писательским беспокойством по поводу состояния мира — таких звонков и так полно, — а совсем по другому поводу. Однако, будучи слабым, глухим, озабоченным личной жизнью, писатель плохо слышит проходящие через него волны, несет околесицу, добавляет отсебятину, портит первоначальный замысел, который призван воссоздать как носитель. Вот почему идея писательской гордыни кажется мне поверхностной и смехотворной. Писатель кусает ногти оттого, что плохо слышит. Ему, прежде всего, видны собственные несовершенства. Он — хреновый носитель. Ему стыдно. Ему хочется залезть под стол от стыда. Он не справляется с заданием. Он не может даже поделиться этим: не с кем. Единственный человек, с которым я мог вести разговор на эту тему, был Шнитке.
Все остальное сводится к социальным ролям, протесту, бегству к славе, творческим стратегиям жизни и эстетическим достижениям в испражнении своих травм. Есть немало недопроявленных гениев, наделенных словесной ворожбой, и, кажется, вначале они верно поют с чужого листа, как ранний Маяковский. Но, научившись манипулировать словами, они имитируют состояние, которое не является пожизненным мандатом. Слабость моего слуха приучила меня к смирению. Гордость отпала сама собой. Но, словно не веря в мои смирения, мне выдали однофамильца, который механическим образом забил во мне гордыню. Говорят, что однажды буддийский монах, оказавшись в Питере, ночью не мог заснуть. Он не заснул и на следующую ночь. Встревоженные ученики, жаждавшие получить от него указания, спросили, почему он не спит. «В вашем городе, — ответил он, — трудно заснуть: на деревьях слишком много неприбранных душ». Наверное, по всей стране на деревьях висят мертвые души, ушедшие без покаяния. Это сбивает с толку — их невольно хочется отпеть. Если отца направили в Париж, бросили на культуру, то я был направлен на жизнь в стране, которая оказалась метафорой неблагополучия, олицетворением безобразия. Мне сказали: вот твое рабочее место.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу