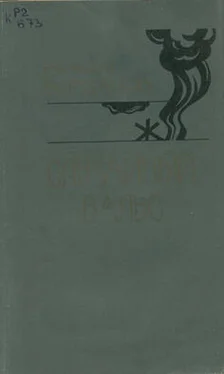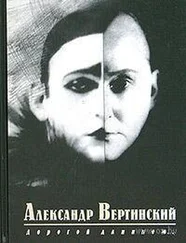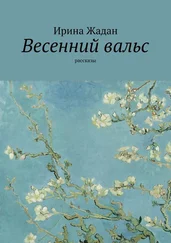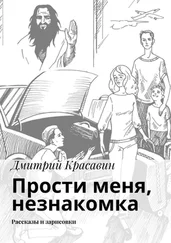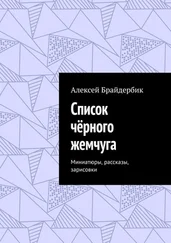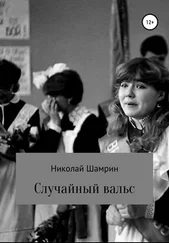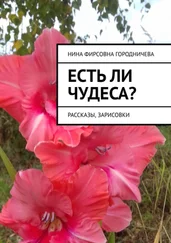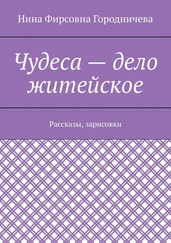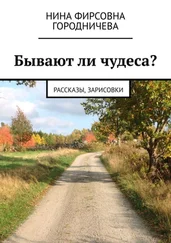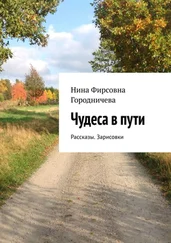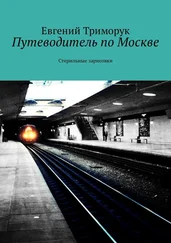— Сам ты сероват… Ежели жернов у тя хорош, дак и намелешь, а коли жернов худой, дак и крупно зерно испортишь.
— Воно, у Васьки Колотовского жито покрупняя твоего, а просит только полтора рубли.
— Ступай к нему. Я што, за полу тя держу?
— Скинул бы в цене-то. Жито-то у тя севогодное, али лонёшное? [5] Севогодное — этого года, лонёшное — прошлого года.
— Севогодное. Купи давай. У Васьки-то зерна-то кот наплакал, и малёнки не набёретсе. Тайком от жонки торгует на вино… Чё ты у него купишь?
Сговорились в цене. Покупатель развертывает мешок, который принес с собой. Однако все же сомневается:
— Малёнка-та у тя больно мала…
— Выверена. Не бойсе. Подставляй мешок-от. Да поди, вон, на весы и проверь.
— Прибавь ищо, сделай с верхом.
— Дак с верхом и есть. Разуй глаза-те.
— Ну ладно уж, сыпь.
Ячмень с тихим шелестом сыплется из деревянной малёнки в мешок покупателя. Тот, перед тем как завязать мешок, еще раз пробует зерно на зуб.
— Вроде ничево… Держи деньги-те!
Теперь такой диалог редкость. Язык каргополов осовременился, старинных словечек в нём почти не сохранилось. Однако от старых людей еще можно услышать.
Да и ячменем теперь торгуют на корм курам — стеклянными банками, не малёнками…
Каргопольский мужичок голову держит прямо, не привык кланяться. Он знает себе цену. Лицо у него открытое, лоб высокий, глаза под ним глубоко посажены и смотрят на тебя при первом знакомстве пытливо, чуть усмешливо: дескать, поглядим, что ты за птица…
У себя дома он — хозяин хороший. Изба у него просторная, бревенчатая, воздуха в ней много. Крыша под коньком над фасадом с-под низу расписана красочно и весело. Зимой глянешь — лето вспомнишь, летом глянешь — весной обмахнет. Цветы цветут, красное солнышко сияет на синем или голубом фоне. Роспись яркая, но не аляповатая. Её видывал я на Ошевенском Погосте, да и в других деревнях. И ставеньки красивые, помнится, были на Гужове у Морозовых. Я, бывало, всё любовался ими.
Делает каргопольский мужичок все сам: и телегу ладит, и дровни мастерит, и дуги гнёт, ступы долбит, масло из конопляного семени по осени выжимает. Делается это с помощью нехитрого приспособления — деревянного станка с двумя подвижными деревянными, плашками. Меж них кладётся холщовый мешочек с конопляным семенем (в старину у каждого гумна была полоска конопли посеяна). Затем вкладывают клин и бьют по нему сверху обухом топора. Клин сжимает плашки, плашки жмут на мешочек, масло тонкой струйкой течет из него на противень, подставленный снизу. Вот и весь маслозавод. Станок назывался «жомы», в мешочке оставался жмых. Он шёл в корм домашней живности. Детишки им лакомились. Я и сам пробовал — казалось вкусно.
Рыбу надо половить — каргопольский мужичок плетёт из ивовых виц вершу (морду), поставит ее в речке на быстрину, глядишь — попало на уху и на рыбник.
Сети вяжет деревянной иглой «шуйкой» из катушечных ниток, невод или бродок (бредень) — из суровых, льняных.
Сам и косу отобьёт и заострит жало «вырезкой» — специально заточенным на точиле трехгранным напильником. Ребром сточенного напильника (без насечки) как бы срезает слой металла. А на покосе правит «лопаткой» из дерева с наждачной массой, наваренной с обеих сторон. Только и слышно на лугу: дзень… дзень… Покосив, остановится, вынет из-за голенища лопатку, поставит косу на косьевище, положит левую руку на «пятку» косы и лопаткой по жалу с той и с другой стороны — дзень… дзень… Коса звенит на весь луг. Перехватит левую руку по обушку поближе к носку косы, меньше звенит: ж-жах… ж-жах…
Русые волосы у мужичка кудрявятся, на лбу и над верхней губой — бисеринки пота. Цветистая ситцевая рубаха распояской намокла на плечах от пота, потемнела. Лицо сосредоточенно-серьёзно, глаза зорко глядят на лезвие косы — не порезать бы руку ненароком. Дзень… дзень…
Коса направлена. Сунул лопатку за голенище, смахнул крепкой ладонью кудри со лба, примерился косой к рядку — и пошёл: ж-жах… ж-жах… ж-жах… Трава, где стояла, тут и пала свежей гривкой. Солнце печёт, овода вьются, норовят ужалить. За день намашется косой до изнеможения. Идет к избушке ужинать.
Сколько было поэзии в таком крестьянском труде!
На покос хозяйки давали самую лучшую пищу: шаньги, колобы, ватрушки, калитки. Еще с зимы подкапливали сущик — сушёную речную и озерную рыбу. Любили из нее уху на покосе. Сушёная рыба не портится, храни её сколько хочешь.
Бывало, каргопольский мужичок сам и бороны делал деревянные. Для них выбирал в лесу молодые ёлки, на каких побольше крепких и длинных сучьев. Вырубит ёлки и прямо в лесу сделает заготовки. Расколет каждое деревце вдоль, оставив с поларшина зубья. Привезя заготовки домой, свяжет их вместе, скрепит с перекладинами ивовой скруткой. Получается борона. Ими пользовались в единоличном хозяйстве, а потом появились металлические бороны «зигзаг».
Читать дальше