В передних дворцовых покоях итальянские комедианты готовили к представлению оперу, названную «Титовым милосердием». Не только знатные персоны и придворная знать, но и уездное дворянство, и именитые купцы, и даже люди малого звания, приличные в поступках и одежде, к этому представлению милостливо допускались. Было на то отпущено дворцовой конторой до тысячи билетов. Радением земляка полицмейстера Фёдоров немец два билета отхватил. И попал Фёдор Волков впервые от роду во дворец и на театр…
В восьмом часу началась музыка на двух оркестрах. Столы были украшены кушаньями и конфетами: для царицы и знатных особ в дальнем покое, для прочих же находящихся в том случае персон в прохожих и непарадных залах.
В паникадилах горело до пяти тысяч свечей — жёлтых, белых, с золотом и без золота… А округ всё было убрано цветами из перьев на итальянский вкус, и китайскими бумажными, сочиненными разным манером. Духота была нестерпимая, толкотня при всей пристойности безобразная. Фёдоров наставник, задыхаясь по тучности своей, проходил мимо столов с кушаньями, нимало не замечая их и даже опасаясь. Только однажды, ткнув пальцем в какую-то диковину, сказал: «Индык жареный в грецких орехах, — смотри!» Фёдор посмотрел, не разобравшись, в другую сторону. У стола стояла девчонка годов пятнадцати, до чего вся в завитках да завитушках, что и не разобрать: где начинается девчонка, где кружева да блонды… Рядом, держа её за руку, стоял малый в камзоле дикого цвета и тощий до неправдоподобия.
Парень что-то не то кричал, не то разговаривал — голос громкий, визгливый такой, что, откудова ни слушай, отличишь от прочих… «И то, — подумал Фёдор, — индык в орехах жареный».
«Не туда глядишь, — озаботился немец. — Не туда!» И, повернув свою круглую голову, уставился на девчонку и тощего пария…
«Mein liber [8] Мой дорогой (нем.).
герцог! Да здравствует Голштиния! Вашей светлости верный слуга!» — завопил немец и, подбежав к тощему парню, бух ему в ноги. «Gut, gut, [9] Хорошо (нем.).
— заскрежетал герцог. — Наград! Вот вам наград! — забегал глазами туда-сюда. — Вот!» — сорвал с девчонки брошь малую, приколол к камзолу Фёдорова немца. Полюбовался — да, так. «Zo! [10] Так! (нем.).
» — и повел кружева да блонды далее. А Фёдор и его немец пошли в комедийную залу для смотрения «Титова милосердия»…
Оглушённый, растерянный, Фёдор сидел, стиснутый с обеих сторон. Заиграла музыка, камер-лакеи притушили свечи. Стена, убранная букетами и узорами, вдруг качнувшись, неслышимая, поднялась куда-то вверх. Ахнув, затихли смотрители. И Фёдор понял, что сейчас, вот совсем сейчас, в жизни его случится такое, чего ни забыть, ни заменить, ни поправить будет нельзя…
Перед глазами широкая площадь, колонны дворцов и храмов, ступени, узорные аркады, небо и по небу плывущие будто в раздумье облака…
Невиданная сторона, неведомый город! И люди той стороны невиданные и незнаемые досель: в багрянце плащей, окаймленных золотом и чернью, в белых, прозрачных, как вешний снег, рубашках. Руки поднимают плавно, не обгоняя музыки, идут словно нараспев, речь ведут песенной манерой. И все друг дружку понимают и знаками то выражают, а музыка, неведомо кем производимая, каждому отвечает и содействует. Опускаясь и вновь поднимаясь, стена словно оберегала, отгораживала букетами и узорами от смотрителей стены и площади города, в котором жили такие люди… Потом смотрелся балет «Золотое яблоко, или суд Париса», музыкой и сладостной немотой уст комедианток растревоживший Фёдора ещё более. Дансерки как бы взлетали на воздух, спадали на землю, плыли, снова настигаемые музыкой, кружились, обгоняя друг друга, роняя из слабеющих рук цветы и листья…
Ночью вписал Фёдор в тетрадь особую, что для таких раздумий завел: «Оперой именуется действие, пением отправляемое, в балете же комедианты чувствования свои телодвижениями изображают. И те и другие человеческие пристрастия приводят в крайнее совершенство. Через хитрые машины представляют на небе великолепия и красоту вселенной. Ко всему тому дарование великое надобно, а к балету уменье не только головой, но и ногами думать!»
С того дня в голове у Фёдора — не то туман, не то забвение ко всему. Бродил по Москве весенней сам не свой… К немцу придёт, тот всё к одному: «С Елизаветой немцы попадали, без них Россия пропадёт». Тоска!
За Спасскими воротами стояли палаты купца Куприянова, где в тишине узкой улочки продажа книг производилась. Тут и «Наука счастливым быть», и «Жизнь и дела римского консула Цыцерона», и «Троянская история», и «Истинная политика с катоновскими» стихами». Для всякого любомудра примечательное множество. Здесь Фёдор нашёл и серую книжицу «Титово милосердие. Опера с прологом, представленная во время коронации императрицы Елизаветы — переводом Ивана Меркурьева печатанная в московской типографии». И ещё — «Ода на взятие Хотина», сочинённая каким-то Ломоносовым Михайлом и отпечатанная ещё в 38 году…
Читать дальше
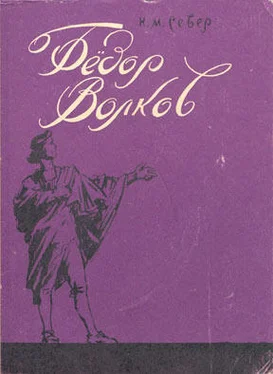

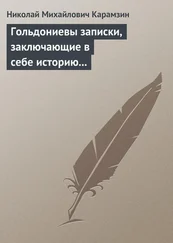
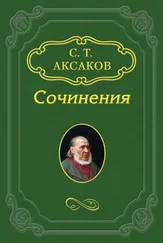


![Александр Волков - Сказ о каменецком золоте турок [СИ]](/books/411532/aleksandr-volkov-skaz-o-kameneckom-zolote-turok-s-thumb.webp)





