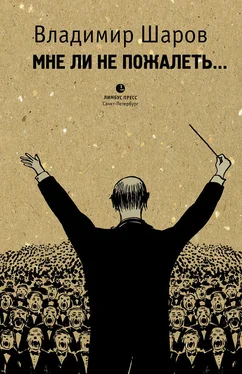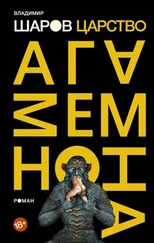В то же время, повторял Лептагов хористам, чужие крики, например крики слабости, которые эсерам должны были бы казаться противными их естеству, они должны петь столь же подлинно, как свои родные, потому что все это – горе, все рождено горем, все плоть от плоти страданий народа и безысходности. Да, им, эсерам, достало силы, чтобы подняться и начать борьбу, а другим – нет, но в них не должно быть и капли высокомерия, только терпимость и понимание, потому что, если они будут идти на смерть ради тех, к кому относятся с презрением, жертва их не нужна. Народ она только оскорбит и унизит.
Прежде высокого подвига, учил он их, они должны спуститься на самое дно, распластаться там, ощутить всю безнадежность и обреченность и лишь тогда снова попробовать встать. Получится – хорошо, нет – значит, так судил Господь. То есть не сверху, как баре, они должны прийти, взять за руку, сказать, что ж ты, дурачок, валяешься в грязи, всех нас Господь создал равными, – ни в коем случае не сверху. Сначала подняться самим, а потом, если и на это достанет сил, поднять других. Он говорил эсерам, что честность, искренность, которая будет в их криках, для него – мера их истинной революционности, и похоже, что это было правдой.
Крики скопцов и эсеров первое время были, конечно, мало натуральны, но потом быстро стали делаться, какими он хотел, – и те и другие были готовы к этому. Они не были счастливыми и довольными жизнью людьми, и вот, едва ему удалось погрузить их во все это горе, то горе, которое всегда было рядом, но не их, пока еще не их, жалость в хористах открылась. Дальше он лишь укреплял их в ней, укреплял их веру и в социальную справедливость, и в Господа, так что после занятий с ним хористы с радостью видели, что стали лучшими, чем прежде, эсерами и лучшими, чем прежде, скопцами.
Только в Кимрах эти упражнения получили настоящее значение, хотя разминать голоса криками Лептагов начал еще в Петербурге, после гибели «Титаника», когда они все, и скопцы, и эсеры, и гимназисты, мечтали продолжить спевки, а он не чаял, как от оратории избавиться. Не понимал и ненавидел хор за то, что тот требует от него возобновить репетиции, продолжить эти красивые праздничные песнопения.
Но объяснить хору ему ничего не удавалось; они были сильнее его, когда собирались вместе; все такие разные и по-разному понимающие мир, такие не ведающие сомнений, они додавливали его. И тогда, отчаявшись, он попытался им сказать, что это – горе, просто страшное несчастье, беда, чтобы они сами не захотели больше этими спевками заниматься. Он думал отвадить их, до предела набив упражнения злом, болью, и для этого коллекционировал, собирал его и собирал, но в конце концов добился совсем другого: неожиданно они и впрямь научились чувствовать и понимать горе, любое горе, и передавать его своими голосами.
И все же это было чистой воды тренингом. Упражнениями они действительно лишь разрабатывали голоса. Довольно долго он вел эти занятия сам, а потом ему надоело, и он поставил вместо себя еврея. Когда тот попал в хор, никто не помнил. Кажется, Лептагову на одной из репетиций не хватило специфического оттенка баритона, тут он и случился как раз с таким голосом, что требовался. Он жил в Петербурге без вида на жительство, скитался, ночевал бог знает где, голодал. В довершение бед на севере у него открылся туберкулезный процесс, он часто простужался, срывал репетиции, хотя человек был старательный и к Лептагову всегда тянулся. Он вообще был очень привязчивый.
Вслед за переездом Лептагова в Кимры он тоже перебрался туда, и надо сказать, Лептагова это тронуло. С голосом в средней полосе у него постепенно наладилось, он подкормился, каверны зарубцевались, так что легкие его окрепли, да и сам он окреп, приобретя вполне благообразный вид. Без сомнения, он был куда более привязан лично к Лептагову, чем другие хористы, оратория же интересовала его мало, для него участие в спевках было лишь способом найти хоть какое-нибудь пристанище, возможно, просто выжить.
Надо сказать, что Лептагов был рад, что еврей освободил его от этих занятий, да и хор в общем не возражал. Тем более, что все скоро увидели, что дело свое еврей делает хорошо и горе он тоже знает. Лептагов, первое время приходивший посмотреть, что у него получается, был поражен, в каком разнообразии и непохожести он знал горе. Для самого Лептагова оно было болью, то сильной, то слабой, то резкой, то тупой и однообразной, но еврей открыл ему его совсем другим. В нем была такая невозможность с ним примириться и его принять, такая его неотвратимость и безысходность, что Лептагов сначала был даже устрашен, а потом просто списал все на личные ощущения еврея, на то, что ему пришлось пережить, на его неустроенность и боязнь. Бедный, обреченный человек, который волей-неволей стал специализироваться на несчастьях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу