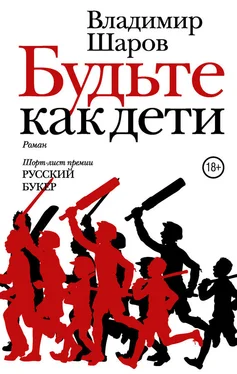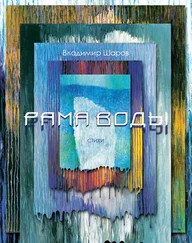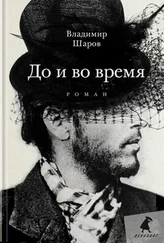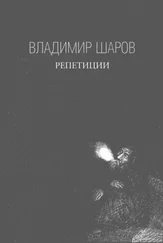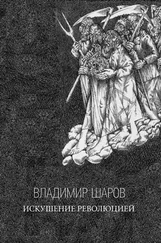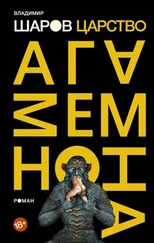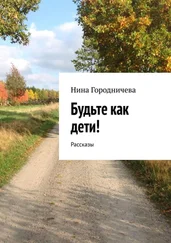Другая причина – история староверов, по-моему, хорошее введение для цикла преданий об энцском апостоле Павле – Евлампии Христофоровиче Перегудове, которые я собирал почти двадцать лет. Судьба этого человека во всех смыслах замечательна. То, что мы сейчас о нем знаем, особенно до начала Гражданской войны, безусловно достоверно. Легендарного в сказаниях о Перегудове крохи. Наверное, я бы продолжал им заниматься, но во второй половине восьмидесятых годов экспедиции на Север ездить перестали и мои прежние занятия, в числе их и энцы, сами собой отошли на второй план, позже и вовсе забросились.
Еще раньше подряд, как по календарю, раз в четыре года последовали смерти: отца Никодима, Сережи, Дуси. Хотя отношения с ними тогда уже не играли для меня прежней роли, всё равно, кроме матери с отцом и сестры, ближе их никого не было. Однако речь не о нас и наших отношениях, а о вещах, которые ни Дуся, ни отец Никодим, ни Сережа, сколько ни старались, никогда не могли обойти, просто спокойно миновать. Будто иллюстраторы староверческого предания, они напарывались на них раз за разом.
Первая из услышанных мной версий Перегудовского жития отличалась отрывистостью. Было лишь ясно, что это беглый солдат, к энцам он попал примерно в 1863 году – как все малые народы, они охотно принимали чужаков, – и тогда же обратил их в Христову веру. Подозреваю, что собственная судьба мало его интересовала, и поначалу никому рассказывать о ней он не собирался, но потом ряд обстоятельств вынудил его к большей откровенности. Десять лет совместных кочевок по тундре в Перегудове многое поменяли. В нем, простом солдате, волею судеб ставшем апостолом целого народа, шла серьезная работа, и довольно рано он столкнулся с тем, что без прошлого своей пастве он ничего не объяснит.
Энцами он почитался пророком, не послушаться его было немыслимо, однако чтобы принять то, чему он учил, племени понадобилось немало времени. В отличие от прежних, его проповеди первой половины семидесятых годов давались самодийцам с большим трудом. Проходил год за годом, но ничего, кроме кощунства и глумления над Божьим посланником, человеком, принесшим им истинную веру, они в них не видели. И неважно, что святотатствовал он над самим собой. Когда же энцы наконец поняли, что Перегудов хочет сказать, они сделали совсем не те выводы, на какие он рассчитывал.
Слова Перегудова, даже не соглашаясь с ним, самодийцы до последних лет сохраняли с большой тщательностью. Они верили, что ничего лишнего, неважного в его рассказах нет и быть не может. Подобно иконе, где цвет, диспозиция и одеяния фигур, лица, руки, то, откуда падает свет, – каждая деталь в них неслучайна и полна смысла. Если сейчас суть чего-то им неясна, значит, для этого просто не пришло время. Рано или поздно оно, однако, придет. Учитывая, что собственной письменности ни у одного из самодийских народов не было, русский поначалу они тоже не знали, и проповеди Перегудова почти пятьдесят лет передавались единственным способом – из уст в уста; то, в каком виде они до нас дошли, – чудо.
Почему я убежден, что ничего не забыто? В этнографии редкость из редкостей, когда мифы, сравнив с другими источниками, можно проверить. В двадцатые годы «Общество старых политкаторжан и ссыльных поселенцев» выпустило несколько книг, одним из главных героев которых был именно Перегудов. Свидетельства революционеров, проживших вместе с ним по двадцать-тридцать лет, некоторые и больше – калька с энцских преданий. Иногда ощущение, будто они просто списывают друг у друга.
Участие Перегудова в русской революции – отдельная повесть. Началось оно во второй половине восьмидесятых годов при следующих обстоятельствах. Через год после того, как самодийцы приняли к себе Перегудова, по низовьям Лены прокатилась жестокая эпидемия прежде неведомой у них моровой язвы. Пришла она откуда-то с Индигирки, от тунгусов. Энцы, особенно дети, болели очень тяжело, вдобавок с кучей осложнений. В итоге болезнь унесла девяносто жизней, и умерли почти сплошь мальчики. В семидесятые годы та болезнь аукнулась во второй раз – в новом поколении у племени не хватало половины мужчин. Некому было пасти оленей, охотиться, ловить рыбу, а главное – зачинать детей. Высшая сила может помочь человеку в любой беде. Окрещенные Перегудовым энцы молили о мужьях, как евреи в Святой земле – о зимних дождях, и были услышаны Господом.
Примерно тогда же в Якутию на каторжные работы и в ссылку Александр III отправил сотни революционеров – на три четверти народников, однако попадались и социал-демократы, и бундовцы. В общем, на любой вкус. Многие из них, причем не раз, пытались бежать. Южный путь – обратно на запад, или на восток, в Америку, а уж оттуда – в Европу, властями был перекрыт, и революционные партии одна за другой решили попробовать северный вариант. В середине девяностых годов он был признан неудачным, но за прошедшие восемь лет Перегудов успел принять и спасти пятьдесят пять человек. Несмотря на посулы, требования, угрозы, никто из них выдан не был. Впрочем, и выбраться отсюда тоже ни у кого не получилось. Постепенно с этим смирившись, народники переженились на самодийках, завели семьи, нарожали детей и назад потянулись лишь после революции, году примерно в девятнадцатом, не раньше. Уехало хорошо если половина, остальные так и остались пасти оленей по берегам Лены.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу