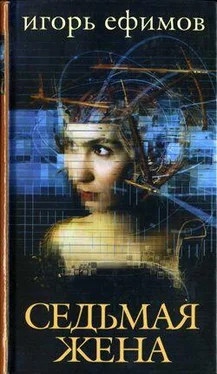– Доверие… Ты убил доверие… Пойми наконец, что во всем, что ты говоришь…
Я понимаю только одно: что вместо дома ты выстроила себе башню из презрения и хочешь отсидеться за ее стенами всю жизнь. Окна забиты, двери заделаны, мост поднят. Никакой несусветный рыцарь-спаситель не доберется до тебя туда. Потому что кто-то вырвал из твоих учебников главу про боль. Про ее связующую силу. Нет прочнее раствора, чем сострадание. Но это – не для тебя. Жалоба, стон, «пощади!» – это всё объекты презрения. Это табу. Презренны те, кто ими пользуется. Кто строит свой дом на таком замесе. Ах, если бы хоть раз ты показала, что тебе бывает больно от того, что я говорю или делаю! Но нет, нет, нет и нет! Никогда. Только причинять боль, только упиваться чужой болью и никогда не признаться в своей!
Он говорил все это, не глядя на нее, отвернувшись к окну, вглядываясь в лесистый склон вокруг собора, пытаясь разглядеть сквозь листву целительные ступени, и потому не сразу понял, откуда возник мычащий сдавленный звук. Звук нарастал, делался выше, тоньше, пронзительней. Он обернулся к ней, увидел наморщенный лоб, зажмуренные глаза, прижатые к щекам ладони и искаженный криком-мычанием рот.
В кафе стало тихо. Хозяин поспешил к ним, заслонил ее собой от зала, нагнулся к уху.
– Что-нибудь случилось? Вам нехорошо? Хотите перейти в мой кабинет?
– Ничего, Альберт, уже прошло. Мне страшно совестно… Простите… Мы лучше выйдем на воздух…
Он шел за ней через рыночную площадь, под мелким, вороватым дождем, глядел на далекий затуманившийся купол, и ему хотелось встать на колени и по намокшим каменным ступеням ползти к нему – за прощением? за приговором? за исцелением? Они сели в ее машину и заговорили наперебой, наугад выдергивая заготовленные фразы из протоколов бесконечной тяжбы, беззвучно кипевшей между ними все эти годы. Каждый упрек, обвинение, сарказм вылетал с такой убийственной силой, что, казалось, не было стены, которая сможет выдержать удар, отразить его. Но немедленно из дымной, враждебной мглы прилетала ответная стрела и больно впивалась под сердце, так что приходилось спускаться еще ниже, в самые душные погреба, за новыми порциями словесной картечи и бить, бить ею в упор, не целясь, тщетно надеясь, что противник утихнет, сдастся, заплачет.
Не выходя из боя, не умолкая, Антон вдруг ясно-ясно вспомнил ночь их первой невинной измены, этого полусонного объятия, за которым их застала жена-2. И как он послушно ушел за женой и забылся быстрым, защитным– сном, а когда проснулся, то увидел ее над собой, с листами бумаги в руках. Она не могла заснуть и всю ночь писала письмо. Она хотела, чтобы он прочел его. После этого письма все-все должно было стать на свои места.
Он начал читать.
Дорогая Сьюзен!
То, что случилось сегодня ночью, открыло мне глаза. Я ничуть не сержусь, потому что ни ты, ни Энтони ни в чем не виноваты. Вы оба действовали не по своей воле. Он был моим невольным – безвольным – посланцем, частью меня, моим alter ego. Я заразила его своим чувством к тебе. Это я обнимала тебя его руками. Мое чувство оказалось таким сильным, что смогло преодолеть даже постоянное и сильное раздражение, которое вызывает в нем твоя саркастичность и гордость. Недавно он сказал, что заносчивость, отпущенная нам, видимо, имеет постоянный объем, который рассчитан на среднего человека, поэтому она просто не умещается в маленьких женщинах и постоянно выплескивается из них наружу. Еще он пожаловался, что вокруг тебя витает какой-то цепкий запах, вызывающий в нем воспоминания о спортивных раздевалках. И тем не менее мое чувство оказалось сильнее – вопреки всем полям отталкивания, оно подняло его с постели и привело к тебе, как луна приводит лунатика на край крыши.
Помнишь наш выпускной год? Помнишь, как мне хотелось, чтобы ты пришла на мой день рождения, а ты говорила, что уже обещала этой серенькой Патси Робинсон, и я хотела даже переменить дату…
Дальше шли истории из школьных лет, которые все теперь тоже представали в новом свете и требовали длительного и увлекательного пересмотра. Жена-2 сидела на своей половине кровати по-турецки, всматривалась в лицо мужа, ловила отзвуки его чувств, слышала только свои.
…Мне хочется, чтобы ты осталась в нашем доме еще на месяц, на два, на полгода. Мы должны наконец понять, что с нами происходит, испытать самих себя. Ты всегда была такой смелой, выше всяких предрассудков и условностей. Ты увидишь, что я тоже не робкого десятка. Если у нас хватит духу дать волю своим чувствам…
Читать дальше