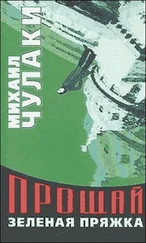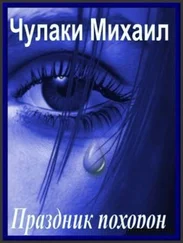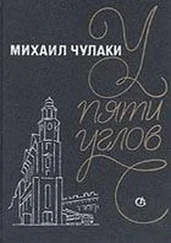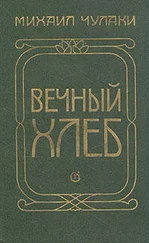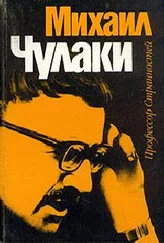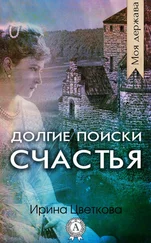Через год он мог поколотить Петьку Колбасника одной рукой, но это уже не казалось заманчивым. Втайне он уже мечтал о рекордах и о том, как девочки будут на него на пляже оглядываться.
В секцию он попал в седьмом классе. Увидел в окне объявление и зашел. Был уверен, что выгонят: где-то читал, что штангой раньше шестнадцати лет не разрешают заниматься. Не выгнали. И не в том дело, что успел за год мускулы накачать, — просто Кузьма Митрофанович брал всех, даже самых тощих мальчишек. Ребята звали его дядей Кузей.
В наш век специализации спорта второй такой секции, как у дяди Кузи, наверное, и не найти: занимались рядом мальчишки, из которых неизвестно выйдет ли толк, и мастера, в том числе два чемпиона Москвы; мужчины за сорок, которые уже бросили выступать, но не могли не таскать железо, и молодые люди, которые никогда не выступали и разрядов не делали, — просто для здоровья подымали свои восемьдесят — девяносто кило. Дядя Кузя был рад всем, а что касается здоровья — считал, что штанга полезна во всех возрастах и при всех болезнях. И его многолетняя практика как будто это подтверждала. Под крылом дяди Кузи все жили дружно, чемпионы не третировали культуристов, постоянно стоял веселый треп, подначивали друг друга, спорили, кто что поднимет (единицей выигрыша почему-то было мыло, и раз Коля Гриневич за три куска «Красной Москвы» снял мировой рекорд). Сам дядя Кузя не был похож на того тренера, какого показывают в кино и по телевизору, — отутюженного брюнета с проседью, волевого, динамичного и почему-то с неопределенной грустью в глазах. Массивный дядя Кузя большую часть времени просиживал в углу на скрипучем стуле, не писал для своих ребят громоздких планов, не прокручивал кинограмм; иногда вдруг встанет, пройдет: «Плечи больше вперед, таз отводи», возьмет гимнастическую палку и, не снимая бесформенного пиджака, покажет движение; а то спросит: «Сколько подходов сделал? Ну еще три, и хватит. Хватит, говорю, я лучше тебя знаю!» И при такой внешней небрежности появлялись своим чередом новые мастера, а Колю Гриневича даже приглашали в сборную.
Володя двигался быстро. В пятнадцать лет у него был третий взрослый разряд — в штанге это немало. Через год — второй. Он гордился собой. Маленький зал дяди Кузи помещался в полуподвале Дома культуры — штангисты почти всегда в подвалах занимаются: никакое перекрытие не выдержит, если на него будет постоянно валиться пудов по десять. Наверху часто устраивали вечера, и тогда у входа Володю встречали молодые люди в черных костюмах с повязками на рукавах. Молодые люди интересовались его билетом, Володя взмахивал спортивной сумкой, говорил: «На тренировку» — и презрительно шел сквозь шум джаза и винный дух в свой родной подвал. Он с первого дня стал фанатиком режима: не курил, не пил ни капли, и в этом тоже была его гордость, его избранность.
А мама ужасалась. Она скрывала увлечение сына от знакомых, как позорную болезнь: сын профессора Шахматова поднимает гири! Отец иронизировал:
— Любопытно, о чем ты беседуешь со своими атлетическими коллегами? Ведь бывают у вас перерывы между, как бы это выразиться… поднятиями. Надо же тогда какими-то мыслями обменяться.
Отец был свято уверен, что только вкусы его круга почтенны, только темы, у них принятые, интересны. А Володя принимал все: с одинаковым увлечением он обсуждал только что вышедший роман Фолкнера и смену тренера в «Торпедо».
У них в подвале все время орало радио. И только когда начинали играть серьезную музыку, дядя Кузя говорил:
— Выключи ты этого Бетховена.
Будь на месте Володи Стасик Кравчинский, он бы уточнил вежливо: «Вы имеете в виду Шопена, экспромт номер три соль бемоль мажор?» И это «соль бемоль» прозвучало бы хуже матерного слова.
Володя достаточно насмотрелся на молодых людей, щеголяющих эрудицией перед старушками в трамвае. Сам он любил и Шопена, и Бетховена, и дядю Кузю, который не выносил первых двух. У каждого человека есть сильные стороны, ими он и интересен: нужно быть полным идиотом, чтобы беседовать с дядей Кузей о модернизме, а со Стасиком о спорте.
Кстати, сильная сторона Стасика его начинала раздражать. Стасик хоть и добрался уже до древних, но любовью его остались символисты:
Идем творить обряд. Не в сладкой детской дрожи,
Но с ужасом в зрачках — извивы губ сливать,
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,
И ждать, что страсть придет, незваная, как тать…
Стасик восторгался. Ему нравилась болезненность. Он, кажется, искренне верил, что жизнь — мука для чувствительной души. Из фильмов он признавал только томительно-скучные, вроде «Затмения»: «Ах, Антониони!» Володя культа неврастении не выносил, и если попадалась книга, где автор ныл, что родиться на свет — всегда несчастье, — бросал сразу. Надо писать, как люди калечат жизнь друг другу, но когда для писателя и поцелуй любимой — мучение, и восход солнца — боль, лучше бы ему доживать в тихом и уютном сумасшедшем доме. Может быть, это неизбежный путь: начинается снобистским презрением ко всему яркому, грубому, телесному, стремлением уйти в чистые сферы духа, а кончается духовной импотенцией, да и физической, как Володя подозревал, тоже.
Читать дальше
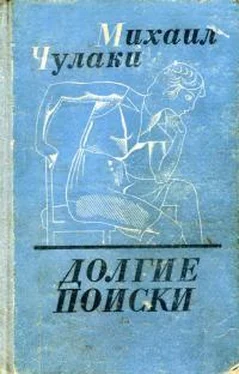
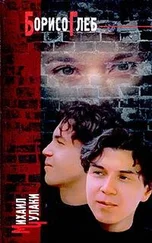

![Михаил Чулаки - Книга радости — книга печали [Сборник]](/books/29437/mihail-chulaki-kniga-radosti-kniga-pechali-sborni-thumb.webp)