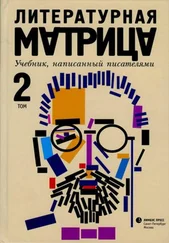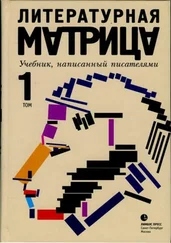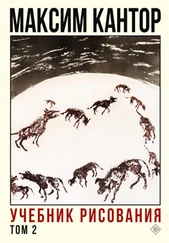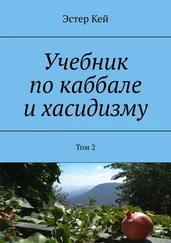- Питер - это запоздалый проект России, которая строилась без проекта. Оказалось, что проект лучше старого здания, - сказал Голенищев.
- Я привыкла думать, что Москва и Питер - несчастливая супружеская пара, - и Елена Михайловна улыбнулась, - оттого русская история так дурна.
- Мне говорили, что есть два направления в русском искусстве - московское и ленинградское, - сказал Струев. - Я прикинул, к какому направлению примкнуть. Русское искусство, которое притворяется европейским, мне всегда было противно. Всякий актер хочет играть натурально - я решил ехать в Москву.
- Теперь, когда город снова стал Петербургом, фальшь ушла, - сказал Голенищев. - Обратите внимание: у ленинградцев глаза раскосые и скулы широкие, а у петербуржцев нормальные европейские лица.
- В Ленинграде от голода в блокаду мерли, - сказала Татьяна Ивановна, подумаешь, глаза косые. Попробуй недельку не поешь. Тебя не так перекосит.
- Стало обидно за московскую школу, - сказал Струев. - Ленинградцы делают вид, что хранят традиции, но это традиции театра.
- Не будем забывать, - возвысил голос Рихтер, - Петербург - колыбель революции. - Рихтер не терял надежды на разговор о главном. Но Елена Михайловна допустить этого не могла. Она по опыту знала: лишь ослабь внимание, и пойдет речь о мировой революции, платоновской академии, Долорес Ибаррури - и так без конца.
- Вы должны согласиться с тем, - сказала Елена Михайловна Рихтеру, что Петербург - колыбель революции, а Москва - ее саркофаг. И, слава богу, мы - москвичи.
- Поскольку я собирался притворяться художником, - сказал Струев, то решил, что среди профессиональных актеров это делать глупо. Они лучше притворяются. А если притворяться в партере, среди зрителей, то вдруг может получиться так, что сыграешь правдиво. Ты понял? - спросил Струев Антона.
Мальчик важно кивнул. Голенищев похлопал в ладоши. Заговорили о горестной судьбе творцов при Советской власти, о расцвете судеб в новую эпоху. Теперь беседой управляла Елена Михайловна, ей важно было одно: предотвратить речевой поток Рихтера, который оскорбленно поджимал губы и требовал внимания. Елена Михайловна обращалась через его голову к Голенищеву и Струеву, она спрашивала Струева о контрактах с галереями, Голенищева о министерских закупках - предметах вовсе Рихтеру неведомых; говоря со Струевым, она круглила удивленные глаза, а слушая Голенищева, глаза щурила. Леонид Голенищев говорил мало: он был мастер шутки, короткой реплики. Для того чтобы реплика Голенищева прозвучала как надо, требовался рассказ соседа - а когда сосед умолкал, Леонид Голенищев двумя словами придавал смысл его длинной речи. Рассказала сентиментальную историю Инночка, а Леонид пошутил - и всем запомнилась лишь реплика Леонида. Если говорил Рихтер, слушатель чувствовал себя учеником на скучной лекции, если говорил Струев, все знали, что говорит человек особенный и есть дистанция меж ним и другими; однако Леонид Голенищев, даром что был персоной заслуженной, умел так сказать, что все понимали: нет авторитетов, все равно забавно и нелепо. Жизнь - занятная штука, и умен тот, кто видит ее суть, открывает в ней смешные стороны. Обреченный на молчание, Соломон Моисеевич сидел со скорбным лицом. Раз он попытался вступить в полемику с Голенищевым и сказал, что развитие искусства остановилось в девятнадцатом веке. «Помилуйте, милый Соломон Моисеевич, в девятнадцатом веке остановилось развитие искусства, обслуживающего угольную промышленность. А в двадцатом развивается то искусство, что связано с нефтяной отраслью», - и Голенищев подмигнул Рихтеру. «Вы марксист, Соломон Моисеевич, - щурясь, сказала Елена Михайловна, - и вам придется с этим согласиться. - Она улыбнулась Голенищеву. - Неужели вы были студентом Рихтера? Как я рада, что вы получали двойки». В иное время Павел помог бы деду, но сегодня был слишком занят собой. Павел глядел на счастливое лицо Лизы. «Вот это теперь моя жена. Теперь ничего не изменишь». Эта фраза делала всю жизнь определенной и тусклой; он знал, что так нехорошо думать, но фраза возвращалась снова и снова. Чтобы сделать приятное Лизе, он несколько раз назвал ее женой. «Жена, передай салат», - сказал он, и Лиза повернула к нему гордое лицо. «Чем же она так довольна? - подумал он. Тем ли, что получила право на мою жизнь? Боже мой, как все нечестно». Лиза сидела под репродукцией Эль Греко, и, глядя поверх ее головы, он видел таинственные бастионы, белеющие в ночи, изрезанный холмами пейзаж «Почему они называют эту вещь «Толедо в грозу»? Да, собираются тучи. Может быть, действительно дело к дождю». И внезапно ему стали мерещиться струи дождя, холодный ливень обрушился на город, он почувствовал порывы ветра. «Интересно, далеко ли Толедо от Гвадалахары, от тех мест, про которые рассказывает дед?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу