Опять была рядом с ним.
— Я хотела тебя спросить… Ты был женат? Кто эта женщина?
— Какая?
— Я хотела сказать… Ну та, с кем ты был прежде. Ведь в Ядринске ты один.
Почувствовала, как неслышно, мускулами лица и груди, окаменел, замер, отделился от нее, укрывшись возникшим видением. И не ревностью, а влечением, желанием разгадать и понять потянулась к нему мерцающими глазами, на близкую складочку у стиснутых губ. Как видела эту морщинку другая? Такой же глубокой и резкой? Или складочка была тогда мельче?
— Нет, я не был женат, хотя и не пойму почему. Я об этом ее просил, да, наверное, не теми словами. В том, что нас связывало, было много глубины и силы и одновременно какой-то поначалу тончайший и даже, как нам казалось, прекрасный надлом, который она совершила то ли из чувства игры, то ли из иного, мне неведомого, непонятного опыта. Она была богаче меня душой, желаниями, чувством. Знаю, что любила меня. И одновременно каждый раз как бы играла в меня и в себя, причиняя этим страдание. Видно, такой уж склад. Так возникла постоянная, почти необходимая боль, которой она разукрасила наши отношения. Так повелись утонченные обиды, которые мы, любя, наносили друг другу. Это длилось несколько лет, пока она училась. Я начал ездить — то один завод, то другой. Каждый раз увозил с собой маленькую гибель наших объяснений и ссор. И странное дело: облучая больные, отмирающие участки души то каракумским солнцем, то норильской стужей, чувствуя, как становлюсь все меньше, суше и жестче, испытывал освобождение. Сколько их было, этих крохотных ампутаций! Она вдруг что-то почувствовала, испугалась — за меня, за себя. Стала проще, искренней, — никакой игры, а одна только женственность, доброта, ожидание семьи, материнства. Но боль, которую она придумала прежде и теперь меня в ней упрекала, эта боль была необходима, стала частью моей к ней любви. И я сам, уж не знаю, как это у меня получилось, сам превращал наши встречи, наши прогулки в ночи в череду небольших непрерывных взрывов. Поворот машинки — взрыв — и на воздух взлетают ее милые, любимые губы, которые только что целовал, и подмосковная золотая роща с отражением усадьбы в синем пруду, и белый карниз Манежа, и ее занавеска в окне, сырая от близости гудящего во тьме водостока. Все это тянулось и длилось, рассекаемое движением самолетов, и однажды, вернувшись, я узнал, что она вышла замуж, без любви, как она говорила, а просто, чтобы окончить наше общее помешательство: ведь должен же быть конец. Но это не имело конца, а все продолжалось. То в письмах, то в нежданных ее появлениях, во время которых мне казалось, что я люблю ее сильно, как прежде. У них родился сын, а потом и дочь. Она ввела меня в дом и тут же призналась мужу. Просила меня простить, говорила, что это конец, я и соглашался с облегчением, с накопившейся за годы усталостью, провожая ее тихо вдоль Яузы, отпуская на горбатом мосту. Но и после все длилось, затухая, не желая погаснуть, — столько было в нас живых, горячих веществ от юности, от радости, от надежды на небывалую, счастливую участь. Пока наконец я не уехал сюда, в Ядринск, и возникла совсем другая, рождавшаяся исподволь тема. А она? О ней вспоминать не время. Быть может, когда-нибудь в старости встретимся, умудренные долгой жизнью, близкой смертью, и спокойно, одним умом, свободным от чувства рассудком попробуем все объяснить. Но это потом…
Его темная половина лица. Кромка света на лбу и губах. Маша с благодарностью, успокоенная, не мешала ему молчать. Еще один ломтик его прошлого, ей не принадлежавшей судьбы был выхвачен и внесен в ее жизнь. Усмехнулась: по кусочкам, по крохам собирает она свое царство — свое знание о нем. Там речка, там кустик, там холм — и еще одно княжество наше.
— Какое княжество? — спросил он негромко.
— Разве я что-то сказала?
— Мне показалось, прости…
Лампа колыхала шаткую чашу света. Капли лились через край, брызгали ему на грудь. Она, наклонившись, прижималась к этим каплям губами.
— А друзья? Кто твои друзья? — она нацелилась на следующий белый, не зарисованный ею кусочек, желая открыть еще один остров и дать ему свое имя. — Ведь здесь у тебя нет друзей. Ну а там, в Москве? Кто там тебя окружал?
— Друзья? Я скажу… — В ответе ей почудилась горечь, и удивление, и обращенная к ней благодарность за эти вопросы, выведывания. — Уж как-то так получалось… Не раз и не два, а, пожалуй, с самого детства… Появлялся друг и мое к нему обожание, преклонение, готовность любить и верить, жертвовать собой и служить. Такое чувство, что он выше и лучше меня. Знает нечто, мне неизвестное. Но потом, постепенно, в самых недрах дружбы и общности возникали силы расталкивания. Слабый толчок и сдвиг, расшатывающий единение. Один, другой, третий. И дружба вдруг рассыпалась, обломки падали мне на голову, и я, потрясенный, застигнутый врасплох, выползал из-под развалин, ободранный, без одежд, уходил с горьким знанием и опытом своего одиночества. И так каждый раз, каждый раз. Отчего? То ли строил в сейсмоопасной зоне. То ли в здании не хватало каких-то важных, сверхпрочных конструкций. Не знаю. Но все мои дружбы, самые яркие и глубокие, подчинялись этой модели. Как с Коленькой Туркиным, с самого детства. Одна и та же модель…
Читать дальше
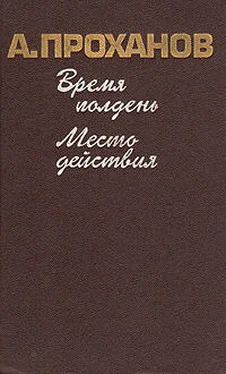

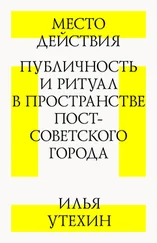


![Анна Шилкова - Мострал - место действия Постон [СИ]](/books/412232/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-poston-si-thumb.webp)
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Ленсон [СИ]](/books/412233/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-lenson-si-thumb.webp)
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Иреос [СИ]](/books/412234/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-ireos-si-thumb.webp)


