Никольский собор возносился огромно в жестяных куполах. Держал среди них луну, раздувавшую синеватое пламя. Маша смотрела, — луна коснулась железного шара, стала за него уплывать. Взгляд ее был в куполах, среди бугров и вмятин, белого блеска.
«Я… эта ночь… все известно… пусть до половины исчезнет».
Она ждала, когда луна уйдет до половины в главу собора. А пока своей властью и мыслью отсылала его, и он удалялся послушно в чуть слышных скрипах. Стоял далеко у пушек, и она сквозь пространство чувствовала его движения и шорохи.
«Пусть до половины погаснет…»
Железная кровля вырезала в луне полукруг. Глазам было больно и ярко от черно-белой отточенной кромки. Думала:
«Новая жизнь… И мне сейчас хорошо…»
Она подзывала его неслышно, торопя приближение, и он откликался, словно чувствовал ее волю и мысль. Подошел и стоял беззвучно. Следил за скольжением невидимой стрелки. И когда луна погрузилась до половины в главу, одев ее тончайшим свечением, Маша в лунном затмении зрачков повернулась к нему, на его робкое: «Не замерзли?» — положила руки на плечи, прижалась к наклоненному в радости, счастье лицу, к сухим горячим губам.
— Нет… Хорошо… Не замерзла…
Руки перепачканы краской. Скомканная, брошенная на пол тряпка в подтеках и кляксах. Рабочая рубаха, продранная на локтях. Мокрые кисти и банки с мутной серо-зеленой водой. А посреди всего, в исчезающей полосе готового потухнуть солнца — заполненный лист.
Горшенин закончил картину. Не отпускал ее, продолжал любоваться. Между картиной и его грудью еще двигалось многоцветное поле, соединявшее их. Еще неслись из груди снопы бесшумного света, ударяли о лист, оставляли изображение.
Снова взял кисть, тронул воду, краску и, едва прикоснувшись, бумагу. Вычерпывал из себя последние капли цвета, чувствуя, что не мелеет при этом. Весь налит, пропитан, до слезного переполнения глаз, силой, свежестью. Его грудь словно колодец, прорытый к неиссякаемой глубине и одновременно несущий ослепительное отражение неба.
«Удивительно, — думал он. — Я подарил ее или мне ее подарили? Я наградил ею или меня наградили? Может, и есть другое, более высокое счастье, но, должно быть, оно возможно за пределами жизни…» — он все еще касался картины, теперь уже одними глазами.
На картине он и жена, взявшись за руки, шли по красному лугу среди трав, шмелей, осыпанных росой паутин и белела в лугах старинная ядринская колокольня. Под ними, на исчезнувшем синем лугу, молодые его бабка и дед шли, взявшись за руки, и белела в лугах все та же кремлевская колокольня. И туманился третий луг, с еще не рожденными травами, и двое других, нерожденных, шли, взявшись за руки, и исчезнувшей белизной светилась в лугах их ядринская колокольня.
Кто-то звякнул на лестнице ведрами. Горшенин очнулся, прислушивался к соседскому кашлю и шарканью. Прошла за окошком машина, и он проследил ее ход. Почувствовал, что плечам его холодно, дома не топлено. Вдруг понял, что голоден, за работой забыл пообедать.
Между ним и картиной понеслись, сначала редкие, потом все быстрее и чаще, звуки, ощущения, мысли, отделяли его от листа, разрушали цветоносное поле. И вот он уже ходит по дому, глядя на сложенные у печки дрова, накинув на плечи свитер, жует на ходу черный хлеб, изредка беспокойно оглядываясь на картину.
Весь день над ней просидел, а в доме нет денег, Машину зарплату доедают. Он опять уклонился от заработка, хотя предлагали в клубе оформить стенды, написать плакаты и лозунги. Кому нужны его акварели? Наполняет ими полки и папки без счета, а потом они бесследно сгниют.
И, страшась этой мысли, суеверно ее отгонял: нет, не сгниют, не бесследно! Голубовский хлопочет о выставке. Ядринское письмо. Век нынешний, век минувший. И он, Горшенин, из нынешнего… А десятку врачихе отдать? А оградку покрасить? А бабушка, а мама, а Маша?
Заботы, волнения, не похожие на недавнее счастье, владели им. Он вытопил печку, чтоб вечером Маша не мерзла. Приготовил обед, чтоб пришла с работы, поела. Спрятал картину в толстую папку, к другим. Взял эту папку и завернутую в газету отреставрированную парсуну и отправился в музей к Голубовскому.
Голубовский, весь день страдавший от болей в желудке, помолодел лицом, сложил губы в восхищенную улыбку, держал развернутый свиток парсуны, воззрясь на воина в казацких одеждах, на красную птицу, на весь сверкающий военный убор.
— Ермак, несомненно, Ермак! Ну и что ж, что нет подписи! Надо заявить о находке! Выставим ее в обозренье! Жемчужина! А была ведь, как уголь. Ну какие твои руки, Алеша, воскресительные!
Читать дальше
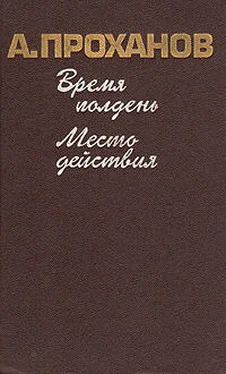

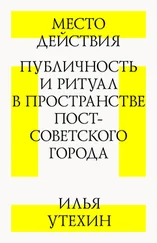


![Анна Шилкова - Мострал - место действия Постон [СИ]](/books/412232/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-poston-si-thumb.webp)
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Ленсон [СИ]](/books/412233/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-lenson-si-thumb.webp)
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Иреос [СИ]](/books/412234/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-ireos-si-thumb.webp)


