Он рокотал поставленным басом. Горшенин верил в его веру. Не хотелось знать о вечных его сомнениях и ревности к столичным знаменитым режиссерам, чьи спектакли учил наизусть и копировал после поездок в Москву.
— За возрождение! За ядринский наш Ренессанс!
— Верно, за братство, родство!
— За Николо-Ядринск! За странствие в Мангазею!
Горшенин любил их единство, из давних, забытых времен дотянувшееся в этот воздух и свет. Пускал их всех в белизну бумаги, и они возникали на ней, как в раме, в белых холщовых рубахах.
Голубовский подсел к Горшенину:
— Ну как дела, Алеша? Как с выставкой? Ходил в исполком?
— Лямина говорит, не до выставок. Нет, говорит, помещения. В музее у вас какую-то экспозицию про комбинат хотят развернуть. А мне с моими картинами и думать нечего.
— Что? Комбинат? Ну это мы поглядим! Это мы еще посмотрим. В музее покамест хозяин я! Открываю выставку ядринских писем и одновременно твою. Преемственность, непрерывность традиций. Так я, Алеша, решил и слова моего не меняю. И ты уж, пожалуйста, давай торопись, к весне откроем.
— Я тороплюсь. Сегодня еще одну работу закончил.
— Видел, да… Замечательно!.. А как с парсуной? Реставрируешь? Уж ты постарайся, Алеша. Увидишь, это великая вещь! Там Ермак, Ермак! Уж ты ее сделай любовней!.. Музей-то наш бедненький, сам знаешь, деньжонок нет. Заплатить тебе сейчас не смогу. Ну как-нибудь выкрою после…
— Конечно… Не волнуйтесь… Все сделаю…
— Маша, Машенька! — Голубовский с церемонным поклоном подошел и взял ее руку. — Что же, Машенька, вы молчите? Скажите что-нибудь! Вы должны освятить наш союз!
Горшенин видел, все это время жена тихо сидела, почти закрыв глаза, чему-то улыбалась. А теперь медленно поднялась, давая Голубовскому целовать свою руку.
— Очень вас сладко слушать. Соловьи, соловьи… Не знаю, что и сказать. А вы завтра ступайте-ка на рынок да зайдите в лавку, где пьяный Михеич звериные шкуры принимает. И увидите: у него на крюке лосиная кожа. Михеич скоблит ее ножом, посыпает солью и вас всех завернуть в нее хочет. Вот вам и все наше земство. Все ваши статейки и пьески…
Поднимались притихшие и смущенные.
— Пора, пора, засиделись!
— Маша устала…
— Алеша, спасибо!..
Уходили, оставляя неубранный стол.
Город ночной и морозный. Железное, седое от инея дерево срубов. Тусклые замки и засовы. Наледи в водостоках. Скрип на снегу. Редкие тени прохожих. И чей-то в проулке голос, захлебываясь хрипом и холодом, отрешенно поет: «Подарила мне цветочек, красный, белый, неживой…» Горшенин сидел у окна и смотрел на старый корабельный фонарь в медной оковке с выбитой надписью «Св. Николай», доставшийся ему по наследству от прадеда, светивший сто лет сквозь тусклые сибирские ночи. «А теперь его свет — для меня, и пальцы мои в керосине, Маша, не попав в его луч, отделенная от меня полутенью».
— Алеша, уедем отсюда! Сейчас, сию же минуту! Нам недолго собраться. На поезд — и к утру далеко. Уедем, Алеша!
— Маша, куда и зачем мы уедем?
— Да куда глаза глядят, только бы не глядели больше на эти заборы, засовы, на убогое, истлевшее дерево, вот на эти потолки в трещинах, на эти косяки сырые. На лица, на улицы, вывески, на этот ужасный театр. Бежать! Мочи нету!
— Отчего? Так вдруг? Что случилось?
— Они говорили: начало, новая эра. Городков, он наивный, несчастный. На лбу написано, что несчастный. Здесь не начало, а конец. Кончилась целая жизнь. Не наша с тобой, а большая, до нас. Тянулась, тлела, и остался последний огарочек, чадный. Гаснущий этот фонарь. Это мы, про нас… Уедем, убежим! Надо сменить этот воздух, этот город и, если можно, сменить имена, обличья, оставить их здесь умирать, а самим убежать. Да хоть проводницей в вагоне. Чаек по утрам, веничек, трусь-трусь, пассажирские хаханьки, за окошком день — ночь, день — ночь, а об этой жизни больше не вспоминать. Уедем, Алеша!
— Маша, как я уеду? Мама все время болеет. Бабушка на ладан дышит. Вот-вот ее не станет, денечки ее считаем. Уеду, а на другой день и случится… Живут потому, что я здесь. Так кровно все связаны. Одному больно, а другой плачет. Сторожу их вздохи, их печали, их последние дни. Да и город-то наш сторожу, засовы, которые запираться не могут, вывески, на которых ничего разобрать невозможно. Сторожем здесь поставлен. Как мне уехать?
— Что сторожишь-то, Алеша? Какой ты сторож, кладбищенский? Ходишь со своим фонарем, освещаешь кресты. Здесь все уже умерло. Давным-давно! Все прах и тлен.
Читать дальше
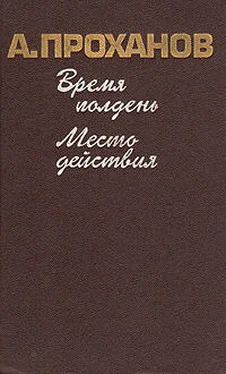

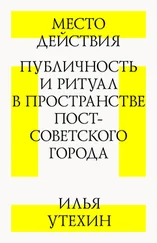


![Анна Шилкова - Мострал - место действия Постон [СИ]](/books/412232/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-poston-si-thumb.webp)
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Ленсон [СИ]](/books/412233/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-lenson-si-thumb.webp)
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Иреос [СИ]](/books/412234/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-ireos-si-thumb.webp)


