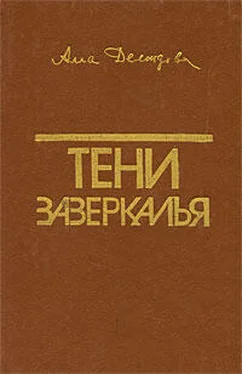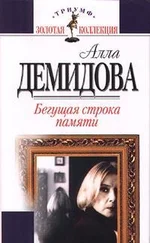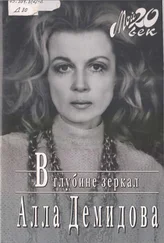* * *
Игра талантливого актера всегда многопланова, потому что многопланово и само поведение человека в жизни — одновременно с каким-то доминирующим чувством мы переживаем множество малозаметных, часто противоречивых ощущений, которые так или иначе проявляются в выражении наших лиц, в поступках, в душевном состоянии, настроении.
Но все эти слои не должны существовать сами по себе, без того главного смысла, ради чего написана та или иная сцена, ради чего она нужна в пьесе. Иначе увлечение второстепенными деталями уведет зрителя от главного. И после спектакля он, наслаждаясь, предположим, хорошей игрой актеров, будет недоуменно пожимать плечами: «А для чего все-таки все это происходило? Ради чего был сделан спектакль?»
Хрестоматийный пример: актер выходит на сцену, он старательно дует на пальцы, притоптывает ногами и изо всех сил изображает, что только что явился с мороза. Он забывает лишь о том, что привело его сюда: беда, радость или надежда… Потерян первый план, самая ценная и нужная краска. И ее нельзя восполнить никакой суммой самых житейски достоверных, самых искренне обыгранных второстепенных штрихов.
Конечно, очень важно, что говорят актеры в тот или иной момент роли, но еще важнее, что за этими словами происходит в пьесе в это время. Слова летят легкие, вроде бы ни о чем, а за всем этим сложные человеческие отношения. Все подтексты актер играет вторым, десятым планом. И когда мы говорим о хорошем актере, мы говорим, как он искусно скрывает свои вторые, десятые планы, — но они есть, мы о них догадываемся.
В «Трех сестрах» у Чехова сцена Ирины и Тузенбаха перед его дуэлью во всех спектаклях, которые я видела, проходила всегда внешне спокойно. Ибо говорят они о своих отношениях, уже много раз оговоренных и вроде бы выясненных. И только за текстом, вторым планом актеры играли и боль, и тоску, и страдания, и безысходность, когда ничего нельзя изменить. Ирина не любит Тузенбаха, но говорит, что замуж за него пойдет. Он это знает.
Несколько лет назад на спектакле А. В. Эфроса «Три сестры» в этой сцене, привычно сдержанной внешне, после спокойных реплик Тузенбаха и спокойного ответа Ирины, вдруг, на срывающемся крике, как последние слова в жизни: «Скажи! Скажи мне что-нибудь!» — «Что? Что сказать? Что?» — «Что-нибудь!»
То, что было вторым планом, стало играться первым, самым главным. Как взрыв. Для меня это было, в свое время, одним из самых сильных театральных впечатлений.
Эфрос потом часто использовал этот прием в своих спектаклях. Это уже стало почти привычным. Эфросовским.
В телевизионном спектакле Эфроса «Фантазия» по тургеневским «Вешним водам» второй, скрытый план героини Анатолий Васильевич опять выводит на первый, но не в словах, а в формах совершенно другого искусства — балета. Тут меня поразило соединение вроде бы несовместимых жанров. Но сам стык жанров был прекрасен. Это было неожиданно и убедительно. Я тогда подумала, что этот прием открывает массу возможностей для телевидения, именно для телевидения…
В нашем спектакле «Вишневый сад» опять использовался прием перевода второго плана в первый, с небольшими дополнениями. Раневская, продираясь почти ползком через могилы, кресты, кричит (а у Чехова по ремарке «тихо плачет»): «Гриша мой!.. Мой мальчик!.. Гриша, сын… Утонул… Для чего? Для чего, мой друг?» Эфрос заставил это напряжение тут же снять иронией (как если бы шар проткнули иголочкой). После этого крика и слез, почти ерничая, Раневская добавляет: «Там Аня спит, а я… поднимаю шум».
Что для меня в Раневской здесь важнее: крик души или ее ирония — не над другими, избави Бог, над собой, ирония над собой как привилегия интеллигентного человека?
Помните у Ходасевича:
Перешагни, перескочи,
Перелети, пере —
что хочешь!
Но вырвись камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся средь ночи…
Сам затерял —
теперь ищи.
Бог знает, что себе бормочет,
Ища пенсне или ключи.
Вот этот перепад в стихотворении от патетического начала «перешагни, перескочи» до ироничного «ища пенсне или ключи» — для меня дороже всего в искусстве. Перепад от патетики к иронии.
Может быть, мне это нравится потому, что я сама не могу удержаться на высокой ноте и спускаюсь на «самоподтрунивание», иронию, ерничество?
В жизни я тоже не могу «правильно» реагировать на какие-то события, известия. За собою я заметила такую странную на первый взгляд особенность. Скажем, когда мне говорят о смерти кого-то, даже, может быть, близкого человека, я начинаю улыбаться. Это не от жестокости или «невключенности», нет, как раз наоборот, поэтому и срабатывает чувство самосохранения — ослабить первый удар. Это, кстати, я замечала не только за собой — за очень многими, в основном городскими людьми. В этом парадоксе есть своя закономерность, своя драматургия.
Читать дальше