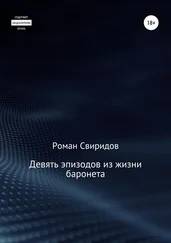Надо заметить, в интересах справедливости, что в подлиннике, преимущественно французском, речь Веры Михайловны не производила впечатления такой шероховатости, как в нашем изложении. Она обладала бездною средств, чтобы делать переходы от фразы к фразе менее резкими: сильно жестикулировала руками, наклоняла голову, закатывала глаза, передразнивала позы и голоса тех лиц, о которых говорила и переливала от самых высоких нот до того странного баса, которым говорят старые бабы на рынке. Всё это очень шло к легкомысленному выражению ее лица, почти без бровей, с голубыми навыкате глазами.
Maman никогда не могла сразу рассказать, как она познакомилась с Nicolas: поток собственных слов и посторонних представлений постоянно увлекал ее в сторону; но если случайно возвращалась к нему, то делала снова два-три дополнительных замечания, и наконец из множества фраз обрисовывался яркий образ сорокалетнего красавца с прекрасной талией, интересной бледностью на лице, благородством на лбу, с роскошными белокурыми бакенбардами.
Nicolas остановился у двери. Он во фраке, с каким-то иностранным значком в петлице. Вера Михайловна сама подошла к нему и сказала:
— Извините, любезный граф… Позвольте мне, на правах старухи… Уж действительно, я говорю, гора с горой не сходится… Я вас, кажется, видела в Париже?
Он не был в Париже, и в Биаррице не был, и его брат не был, потому что у него нет брата; но все-таки дело было сделано: они познакомились. Он с таким тактом… Тут проходила Сонечка.
— Сонечка! — говорю…
Чудные, сладкие минуты! Здесь, на террасе, Софья Петровна переживала их в сотый раз. Тогда она, можно сказать, ни о чем не думала, поступала и говорила по вдохновению, но всё налаживалось как-то само собою и как нельзя лучше. Она танцевала с ним третью кадриль и потом, совершенно случайно, встретилась в прохладной и уединенной боковой комнате, куда отправилась отдохнуть.
Она сидела в нише, у окна, между двумя олеандрами, опустив голову и обмахиваясь веером. Nicolas — тогда еще Николай Иванович, или граф Николай, или граф Пузыркин — стоял несколько позади, держась за спинку ее стула и играя часовою цепочкой. Больше никого и ничего не было. Были, правда, какие-то цветы, какая-то мебель, какая-то лампа, книга на столе или альбом; но всё это сливалось в однообразную массу, подобную тому сероватому фону с розоватым отливом, что окружает портрет на фотографической карточке, чтобы рельефнее оттенить изображение. В разговоре ему приходилось несколько наклоняться, а ей поворачивать вполоборота и поднимать голову. Он произнес несколько незначительных фраз и затем перешел к костюму, — этому самому малороссийскому костюму.
Это чрезвычайно мило! Он очень сожалел, что такие костюмы вывелись из обыкновенного употребления: они так ярко обрисовывают национальные особенности телосложения… Чему она улыбается? — Да, именно национальные особенности телосложения. И те же исторические условия («Как он учен!»), которые выработали известный тип красоты, выработали также и наряд, самый, так сказать… Ну, наконец, кому неизвестно, что русский сарафан, так идущий к мощному, широкому телу русской женщины, может только обезобразить гибкую, тонкую, стройную как тополь фигуру малороссиянки, и наоборот? Она, Сонечка, — совершенная малороссиянка! Это вообще, а в частности малороссийский наряд имеет неоспоримые преимущества. Сколько поэтических подробностей! Какое шитье! Этот, например, узор на рукавах — да это прелесть что такое! Его просто нужно, так сказать, изучить!
Узор представлял гирлянду из роз, окаймленную двумя узенькими полосками, — красное с синими, за которыми следовали два ряда маленьких голубых звездочек.
— А ведь это, должно быть, ужасно трудно вышить такой рукав? (по-французски).
— О, вовсе не так трудно!
Смеясь наивному восхищению графа, Сонечка обнаруживала два ряда ослепительных зубов.
— Может быть, может быть… Однако такой широкий рукав…
Но шитья вовсе не нужно на целый рукав. Оно кончалось, покрывая только наружную боковую сторону, у груди, где под тонким батистом, шнурком мониста, тугим корсетом и красным шелковым корсажем билось глупое сердце, уже побежденное, уже сладостно замиравшее от звуков его, тоже любовно звучавшего голоса…
Граф скользнул глазами по коротенькой голубой юбке, из-под которой выглядывали маленькие ножки в красных сапожках, — и замолчал. Она смотрела на кончик веера, которым в ту минуту ударяла себя по коленям, но чувствовала, куда он глядит, и знала наверное, что он думает именно «ножки», а не «ноги».
Читать дальше