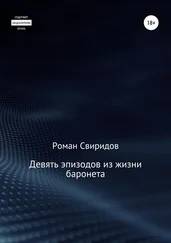— Возьми свиней-то! — кричала мать невероятно гневным голосом, заглядывая к хозяину. — Чтобы они поколели!
— Ну, ну, больно раскудахтались. Куда я их возьму? Воду пролили? Эка важность! Золы посыпать — и ничего. Он ведь поросенок, не смыслит! — хладнокровно защищался старый унтер, покуривая вечную трубку.
— Так из-за твоих поросят у меня пусть болото на полу стоит? — настаивала мать. — Золы! Живи сам в грязи, коли нравится, а я — полковница!
Этот аргумент всем, соблюдавшим нейтралитет, казался очень щекотливым и неприятным. Я крепче закусывал губы, сестры выбегали в сени и укоризненно, но тщетно произносили: «Мама!»
Унтер при этих словах вынимал изо рта свою трубочку, смотрел на бедную «полковницу» с засученными рукавами и подоткнутой юбкой, потом куда-то в сторону, потом снова на «полковницу», потом флегматически плевал и удалялся, захлопнув за собою дверь.
Мать не могла равнодушно выносить этого хладнокровия и выходила из себя. Меня она как будто побаивалась и оставляла в покое, но сестрам доставалось.
Отчего они сидят, как… Помогли бы хоть матери… Ох, всё бы то сидеть да барствовать! Та, пучеглазая, — отчего это она смотрит такой принцессой? Сидит ведь на шее. Отчего она замуж не выходит?…
— За кого ж я, маменька, выйду замуж? — кротко отвечала «пучеглазая» (то есть Надя) со слезами в голосе.
Мать не находилась, что возражать, громко вздыхала, и тишина снова водворялась в избе.
Я стараюсь игнорировать всё окружающее и весь предаюсь «чарованью сладких вымыслов»; хватаюсь за них, как утопающий за соломинку.
Мерещится мне некоторое место, наполненное сапогами… ах, какие сапоги! Большие и малые, высокие и низкие, с пуговицами и без пуговиц, лакированные и матовые — раздолье! Потом вместо сапогов является большой, сочный кусок говядины… Разумеется, я ем с величайшим аппетитом (при этом мать удивляется, отчего я не ем ее картофельной похлебки; а я с улыбкою предлагаю ей половину своей порции ростбифа), и вдруг слышится стук в дверь. Но это не кредитор, пришедший требовать свою полтину, а некоторый господин N, которого я давно жду. Между нами происходит приятнейший обмен взаимных представлений, потом несколько незначительных фраз, и наконец он просит не отказать ему и занять место… ну, хоть учителя при его детях. Я, конечно, с удовольствием… Он уходит, и в моих руках остается очень крупный задаток, рублей примерно сто… Ха-ха! Вот так штука! Сестренки! чувствуете ли вы это? В ближайшее воскресенье вы пойдете гулять в рощу… Веселые, румяные, вы не будете иметь теперешнего робкого, унылого вида… Чего, в самом деле, робеть? Что за важность… а?
Словом, с одной стороны, мерещится мне чепуха, но с другой — нельзя и того не принять во внимание, что
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…
Помните, как относились «реалисты» к этому двустишию? Но я всеми силами души держался за «нас возвышающий обман».
Сейчас я упомянул мимоходом о картофельной похлебке. Не думайте, что она производилась как-нибудь просто: вскипятил воды, натер картофеля — и готово. Вовсе нет!
Утром, когда еще сестры спали, мать просыпалась, садилась на кровать и обводила тоскливым взором свое помещение, наконец глаза ее останавливались на сундуке у печки. Она подходила к нему, открывала крышку и с глубоким вздохом начинала вытаскивать всякий хлам: то старый, полинялый сюртук отца, то медный подсвечник, то кусок мехового воротника, пока не останавливалась на одной какой-нибудь вещи. Она откладывала ее в сторону; остальное укладывала снова в сундук, тихонько спускала крышку и торопливо начинала одеваться. Отложенную вещь надо было так или иначе капитализировать, и только тогда могла явиться вязанка дров и несколько картофелин и прочее.
Мало, очень мало вещей оставалось в сундуке. Кой-какие более ценные предметы: кольца, серьги, платья — всё было давно продано или заложено. Наконец сундук совсем опустел, а потом и сам исчез куда-то. Помню я такое утро. Мать особенно долго сидела на кровати, глубже обыкновенного вздыхала и всё по привычке поворачивалась к печке; но там было только порожнее место. Было что-то трагическое в выражении ее лица. Наконец она порывисто подошла к углу, где висела почернелая икона в золоченых рамках, нервно сорвала ее с крючка, завязала в узел, а потом снова села и заплакала. Эта икона была для нее домашней святыней. Перед нею она училась молиться в детстве; она же была ее благословением при выходе замуж. Мать выносила ее, если случался где-либо поблизости пожар. Если гром гремел или глаза у кого болели, стоило зажечь перед иконой лампадку — и тоже помогало.
Читать дальше