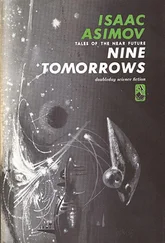Сидели рядом и, бормоча несвязные речи, привыкали друг к другу. У Прокопа волос на голове еще держался, и глаза по-прежнему цыганской черноты, только лицом стал круглей, в коричневом загаре, и брюшко навыкат.
Ткачук похлопал его по брюху:
– Сытно живешь!
От радости у Прокопа улыбка не сходит, под усами белеют плотные зубы. Да и как не радоваться, когда на ум приходят молодые забавы, всякие прокуды тех давних лет.
– А помнишь, Тодор, в Слободе, как мы их…
– Не. Мои ребра помнят, как они нас!
Прокоп запоздало засмеялся.
Они стали перебирать прежних дружков и соседей. Память вперемешку подсовывала и тех, кто жив, и кто успел помереть по собственной причине, и кому подсобили.
– А где Арон, что лавку держал?
– Его с Брахой немцы стратили. В войну еще.
– Сивый Дорошенко тоже руку приклал… – вмешалась Ганька, но Михайло шикнул:
– Не наше дело.
– Добрые были старики… А ты, вижу, воевал? – Прокоп показал на орденскую планку.
– Он у нас герой! – похвасталась хозяйка, ставя перед Ткачуком тарелку с угощением.
Самый момент был спросить, где Прокоп провел военную пору, но, чтоб при чужих по нечаянности не ввести в смущение, Ткачук прикусил свой вопрос. Можно о другом потолковать.
– Так откуда ты?
– Из Австралии. Мельбурн.
– Ого, куда занесло! Это же надо – Австралия… Значит, не в Канаде. Говорят, наших много в Канаде. Словом перекинуться можно. У тебя есть кто по-нашему балакает?
– Не. Не встречал. Только инглиш.
– Вай-ле! Ихню мову знаешь… Назови что-нибудь.
– Что назвать?
– Да хоть бы… водка, к примеру, как сказать?
– Так и будет – водка.
– Ну-у, тогда не страшно…
На тарелке лежали куски вареного мяса и горка рассыпчатой дымящей барабули. Ганька не скупится, щирая рука! Дай боже здоровья! А что в лозах балует – может, брешут, напраслину наводят. Кто свечу держал?.. Да и как не подумать о Ганьке с лаской, если полная до краев тарелка надлежит целиком Ткачуку, без напарников и прихлебал, за ними не уследишь, умнут в один прихват. Зато отдельная посуда позволяла Ткачуку не спешить, не заглатывать по-собачьи, а жевать спокойно, с толком, давить языком кусочки мясца к небу, чтоб вышел сок и сполна прочувствовать забытую приятность. Он обстоятельно набирал вилкой еду и, не наклоняя головы, чинно подносил ко рту, не уронив при том ни крошки.
А Прокоп откусывал да нахваливал малосольный огурец, холодный, в желтых зернышках укропа. От картошки, извиняясь, отказался. И хлеб не брал – диета, говорит.
– А помнишь, Тодор, на Великдень хлебцы пекли. Малые такие, корка сверху гладкая, блестит. И сейчас запах чую… Как они назывались, а?
Ткачук отнекивался, замотал головой. Впрочем, кажись, были малые хлебцы… Точно были. Их даже Параска ставила. Обычно в Живную среду [76]заквашивали. Но разве упомнишь, как называли…
– Знаешь, мне даже во сне было: покойная матуся из печи выгребает их… Глазами бы съел.
Ткачук участливо слушал Прокопа. Вай-ле, бедолага! Натямкался на чужбине! Натер холку по чужим дворам… И тоска грызла ночами, если виделось, как матуша из печного горнила хлебцы достает… К утру, верно, вся подушка под щекой соленая! Врагам нашим такую побудку!
Прокоп заметил грусть у Ткачука, но истолковал по-своему:
– Слышал, ты вдовый… Дети есть?
– Есть… Веронця. И внуков имею.
– Это хорошо – внуки.
– А-а, бесенята… – отмахнулся Ткачук. Ему не хотелось расспросов, за кого Веронця вышла, сказать-то нечего, и он перевел разговор:
– Работаешь там? – Ткачук еще раньше отметил в уме, что пальцы у Прокопа почти без ногтей, будто в копоти.
– Мало уже. Сын пускай работает. Я – как это сказать – пензия.
Ткачук осклабился.
– Мне ее тоже приносят. А сейчас в бригаду взяли, гребли строить. Вода ломает, а мы строим. Слава Богу, работа есть. Еще бывает, рыбку продам. Жить можно. Тебе ее хватает?
– Кого?
– Пенсии, – кого!
– Вроде хватает. Много ли нам, старым, надо?
– Как сказать, оно, конечно… твоя правда.
Ткачук набил рот горячей барабулей, чтоб не было соблазна спорить с гостем. Но про себя решил, что, может, у них там климат к старикам добрый, оттого мало нужно. А здесь другая погода, здесь, куда ни ткнись, ого-го сколько… В первый черед, к зиме брикет купить, потом – рулон толи на стайню, и солонины пару кило – тоже деньги немалые, И в окно шибку [77]вставить, лопнула, зараза, и гас [78]для лампы не дают даром, все – надо. Как ни трудайся, латай не латай, а прорехи светят! Ошибаешься, Прокопе: старым куда тяжелей, как молодым. Весь день в бригаде довбней [79]маши, а дома огород ждет: полоть время. И сеть порвалась, и вершу плести надо – рыба сама на берег не скачет, тут тебе не Австралия…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)