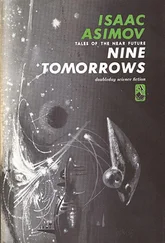Дорога вела в заброшенный карьер. Гравий там кончился, выбрали до сизого ила, а дорога осталась. Разбитая когда-то сотнями самосвалов, не знавшая грейдера, она уже начала зарастать бритвенной осокой. Вдоль кювета поднялись красноголовые будяки. Сухие кусты держали на себе пучки овечьей шерсти. Недавний дождь наполнил выбоины плавленым оловом, и машина, в которой ехал Ткачук, зайцем петляла среди луж, проваливалась по оси, с ходу раскалывала водную гладь, а вода сердито шипела, вздымалась из-под колес и раскрытым веером выкатывалась на сушу.
Ткачук сидел в кузове на запасном колесе. Ухабы измотали до колик в боку, каждый встряс казался ему последним в жизни, будто из него вот-вот, как из лопнувшего куля, потекут потроха. Он ойкал, чертыхался, клял начальство и свой болтливый язык. Надо же, повсегда молчит, стережется, и хлопцы отнекивались, а тут он возьми вдруг и ляпни, мол, знает эту дорогу. Угодить хотел, вот и угодил в коровью лепеху.
Сейчас бригада в тени прохлаждается, снедают, а он, старый пень, свою печень мордует, ей-бо… Яшка-шофер совсем скурвился – гоняет, будто срачка напала! Небось кирпичи на калым – как покойника вез бы: мирным шагом, а живого Ткачука от борта к борту бросать не совестно… В кабину его не садят, не по чину, в кабине начальство зачуханное, курва его мама. Не подумают, что Ткачуку в кузов забраться – та еще морока, и слезть не легче, года уже не прыгучие.
Голод напомнил, что на обед Ткачук принес пол-литровую банку горохового супа и шмат сала, но все осталось в тобивке, [58]среди прочих сумок бригады. А ему сейчас пусть бы не суп, ему бы в радость сухую корочку пососать. При обиженном брюхе и в корочке сладость найдешь – слюна густеет, хоть в узел вяжи.
С растолченной дороги свернули на проселочную. Машина пошла ровно, лишь в особо промоклых местах оставляла за собой глубокий пьяный след.
На взгорке открылся простор глазам: река – недвижная, светлая, упала в зелень поймы, стадо гусей белым облаком на луговине, яблоневый сад спускается по откосу к щербатому яру, где-то палят костер и над садом висит полоска дыма, ищет небо…
Людей окрест не видать, но Ткачук знает, что скоро должна показаться хибара паромщика, здесь колхоз держит земли по обе стороны реки, для своих у них паром задаром, а с чужака за переправу по двадцать копеек дерут.
Вдруг что-то привлекло внимание Ткачука. Он приподнялся, рассмотрел получше – и сразу затарабанил по кабине.
Запели тормоза. Яша выставил наружу нездешний крючковатый нос:
– Охренел, старый… В другой раз так заторможу – костей не соберешь!
Ткачук показал рукой:
– Дывысь, шо творят…
Яша сдвинул брови в сторону луга, он не любил горячиться.
– Чего они базарят?
– Дывысь, дывысь! От паразиты – душат!
Яша понимающе присвистнул, хлопнул дверцей, и машина взревела железным нутром. Не жалея рессор, газовали по кочкам и колдобинам, руль выламывал руки шоферу. Ткачук посинел, держался за борт, чтоб не выпасть из кузова.
Старая протока преградила путь, на дне ее – узкая топь со струйкой живой воды. Ткачук второпях не заметил, как скокнул с машины, но на земле замешкался, потерял направление, суетливо обогнул машину – ага! – и кинулся вслед за Яшиной спиной.
Яша бежал с монтировкой. Начальник на подножке машины, заслоняясь ладонью от солнца, надрывал голос:
– Яша, стой! Они бешеные! Стой!
Ткачук тоже кричал: «Геть, геть!», но больше, чтоб заглушить страх, и на бегу высматривал какой-нибудь дрючок. Ткачук знал наверняка: не бешеные они, бешеные парой не водятся.
Еще с высоты кузова Ткачук видел, как две здоровенные псины гоняли гусей, рвали им глотки, и гуси сваливались наземь, лишенные жизни. Одни сразу покорно замирали, другие еще сучили лапами, трепыхались, крыльями помогали поднять тело, но бессильная голова тонула в траве.
А псы, лихо задрав хвосты, тешились без устали. Ткачуку казалось, что он слышит, как хрупают сжатые клыками позвонки. И душили псы не от голода – потехи ради. Должно быть, справляли кровавую гульбу на каком-то своем торжестве.
Услышав людей, собаки унялись – шерсть на загривке сникла, оскал потух – и бросились прочь из гурта. Яша матюкался, швырял им вслед камни. Гуси шарахались по сторонам, а псы неохотно, бочком затрусили в дальние травы.
Глупые твари, подумал Ткачук о гусях, – гогочут впустую, а накинулись бы скопом – от псов только клочья по ветру, голяком бы драпали, щенкам своим заказали бы: гусей не трогать! А гусь, дурило, увернулся от беды и травкой интересуется, а что его товарища кончают – это пусть, его не касается, он себе перья чистит. Ах ты, друг…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)