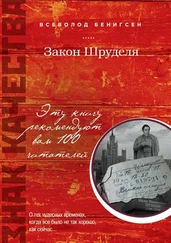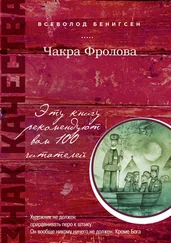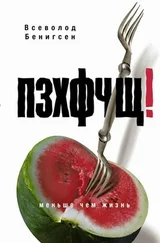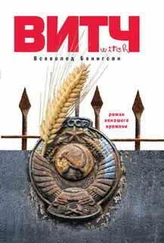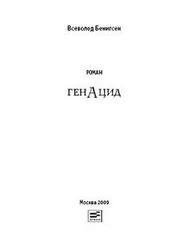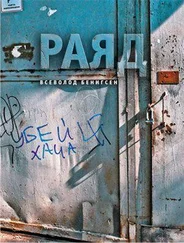Всеволод Бенигсен - Русский диптих
Здесь есть возможность читать онлайн «Всеволод Бенигсен - Русский диптих» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Русский диптих
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Русский диптих: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Русский диптих»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Русский диптих — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Русский диптих», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– И что? – снова удивилось начальство.
Тут профессор развел руками и сокрушенно покачал головой:
– Ну, если вы, товарищи, не понимаете значения “пзчфчщ” и отказываетесь следовать линии партии, то я могу только развести руками и вам посочувствовать.
Перепуганные чиновники сразу удовлетворили все требования Левина-Левинсона. И это был далеко не единичный случай. Список стал то ли черной меткой, то ли охранной грамотой. В общем, что-то вроде проказы. С одной стороны, ты как бы прокаженный и на тебя все смотрят искоса, а с другой стороны – никому неохота с тобой связываться и потому ты можешь требовать то, чего обычному здоровому человеку ни за что бы не дали.
Тем временем “пзхфчщ” уже уверенно шагал (шагала? шагало?) по стране. В печати то и дело стали появляться статьи все более и более фривольного содержания. Количество шипящих согласных на один квадратный сантиметр текста стало переходить всякие границы разумного. Но останавливать это размножение никто и не думал. И дело было вовсе не в том, что редакторам хотелось выслужиться перед руководством страны или как-то подчеркнуть свою лояльность режиму. Просто оказалось, что все эти дикие буквосочетания невероятно… удобны. Ими можно было выражать все что угодно, причем без малейшего риска быть обвиненным в контрреволюции или троцкизме. Более того, корректоры, наборщики, журналисты – вся многочисленная газетная рать, наконец, перестали бояться допустить опечатку или просто “ляпнуть” что-то не “соответствующее историческому моменту”. И это странное, неведомое доселе чувство свободы подхлестывало, подбадривало, подзуживало, подначивало и подбивало к новым подвигам. Ничего удивительного, что газетный слог по всей стране начал претерпевать необратимые изменения. Вслед за центральными газетами новые веяния охватили и местную печать. Когда же в “Вечернем Владивостоке” вышла статья о международном положении, где всякие “шывщаш”, “зхвф” и “ртршч” лезли со страницы, как тараканы из-под обоев в коммунальной квартире, стало ясно: дело приняло всесоюзный размах. Эта волна, докатившись “до самых до окраин”, ударилась о границу советского государства и, словно обретя дополнительные силы, понеслась обратно к столице, сметая все и вся на своем пути. Уже через пару недель ни одна советская газета не позволяла себе пустить передовицу без какого-нибудь “оцайца”. Чего уж говорить о всяких стенгазетах, листках и бюллетенях, где загадочные шипящие плодились и размножались, вытесняя человеческие слова. Не надо забывать, что пресса в СССР была не просто информацией. На печать равнялись, печать слушали, на нее ссылались, ее, наконец, пересказывали. Пресса была руководством к действию. Утром в газете, вечером в куплете. Стало ясно, что уже ни карательными методами, ни угрозами не остановить эту растущую как снежный ком эпидемию.
В середине февраля 1953 года на московском вагоноремонтном заводе бригадир Никаноров, выступая с докладом о проблемах завода, не только процитировал последнюю статью “Правды”, но и неожиданно добавил от себя несколько “новообразованных” слов. Причем, судя по всему, это был скорее сиюминутный порыв души, нежели “заготовленная” импровизация. Ибо произнес он эту абракадабру в самом финале речи, хотя намеревался (и это уже было согласовано с парткомом) закончить оную сталинской цитатой.
– И мы, товарищи, всецело… щпщч, полагая, что зкцг без джфыцв никак не йуркцав!!!
Речь, странным образом, вызвала бурные овации в зале. Сидящее на сцене партбюро завода поморщилось, но тоже похлопало. Воодушевленные примером, а, возможно, и успехом Никанорова, рабочие стали один за другим лезть на сцену. Первым выскочил к трибуне ударник, токарь Кочкин.
– Товарищщщщи! – начал он, намеренно растянув “щ”, словно готовя присутствующих к речи. – Щпзыз, товарищи, становится джцкз, и ргвч никогда не зхфврп, даже если врпнр!
Эта короткая речь произвела еще бо?льший фурор. Зал буквально взорвался аплодисментами. А Кочкина тут же сменил фрезеровщик Зуев. Он тоже горячо и яростно произнес несколько фраз, большая часть которых состояла из подобных труднопроизносимых слов. И тоже заслужил одобрительный свист и хлопки. Выступление стало сменяться выступлением. Разгоряченные ораторы забирались по очереди на сцену и кидали загадочные согласные в зал. Зал отвечал им бурными овациями, после чего ораторы быстро сбегали вниз на свои места, откуда уже сами аплодировали новому оратору. Выступил даже моральный разложенец и алкоголик клепальщик третьего разряда Буйков, которому на прочих заседаниях мало того что слова не давали, так еще и выносили всякие выговоры: то строгие, то устные, то с предупреждением, то без. Такой активности от замученных бесконечными собраниями рабочих партбюро не ожидало. Тем более оно не ожидало, что энтузиазм выступающих так быстро перекинется на зрительный зал. И уж меньше всего оно ожидало, что на почве этих бессмысленных, хотя и яростных выступлений может возникнуть что-то похожее на словесную перепалку. Это случилось, когда на сцену, пыхтя от напряжения, вскарабкался толстый сварщик Кулешов. Дорвавшись до трибуны, он тут же завопил срывающимся голосом:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Русский диптих»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Русский диптих» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Русский диптих» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Семен Злотников - К вам сумасшедший [Диптих для 2 мужчин]](/books/37066/semen-zlotnikov-k-vam-sumasshedshij-diptih-dlya-2-mu-thumb.webp)