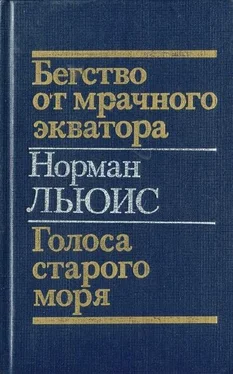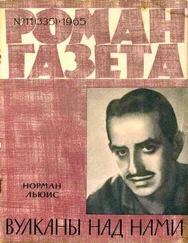— В тюрьме Лос-Ремедиоса по отношению к заключенным не применяют никакого насилия. Не берусь судить о тюрьмах, находящихся вне сферы полномочий генерала Лопеса, по полковник Арана подчиняется непосредственно генералу, и я знаком с указаниями, полученными им от Лопеса. Генерал — патриот и сторонник реформ, поэтому у него много врагов. Мы не должны поддаваться их пропаганде.
— Да, не должны, — отозвалась Мэри. — Ты прав.
— Мы живем в бедной провинции бедной страны, сказал Уильямс, — а генерал Лопес пытается вытащить ее из нищеты. Для этого необходимо привлечь иностранный капитал, что возможно лишь при наличии такого политического климата, какой в состоянии обеспечить только сильная власть. Когда я говорю «сильная власть», я не имею в виду тиранию. Я достаточно хорошо знаю Лопеса и смело заявляю, что при нем тирании не будет.
Повернувшись всем корпусом с достоинством римского сенатора, Уильямс обратился к Харгрейву:
— Седрик, помогите мне рассеять опасения Мэри.
Скажите, что вы думаете о генерале Лопесе?
— О генерале я думаю вот что: лучше бы на его месте оказался Рамон Браво, помощник губернатора.
— Но Браво — коммунист, — сказал Уильямс.
— Нет, он не коммунист, он либерал. Хотя теперь, когда Браво получил свой пост, его и так назвать нельзя. Он двуличный человек и не внушает доверия.
Но он хотя бы не типичная сильная личность. Латинская Америка устала от сильных личностей.
— Я вовсе не считаю генерала Лопеса сильной личностью. Он скорее проповедник, мыслитель. В юности он собирался стать священнослужителем. Вы ведь, кажется, знали его в то время, Седрик?
— Я познакомился с ним позже, когда он стал военным.
— Он надел форму, повинуясь чувству долга перед родиной — он сам мне об этом говорил, — сказал Уильямс. — Седрик, вы согласны, что он патриот?
— Лопес это слово понимает весьма своеобразно.
— Но ведь он идеалист, не правда ли?
— Точнее, был им когда-то.
— Вы не оправдали моих надежд, — сказал Уильямс. — А я думал, вы меня поддержите.
Хоуэлу показалось, что Харгрейв старается уйти от разговора о Лопесе.
— Но вы, надеюсь, не верите в те истории, которые распространяют о нем?
— Не во все.
— Вот видите, не во все. Я был уверен, что вы не поверите всему, что говорят. Расскажите нам, пожалуйста, как вы познакомились с генералом. Мэри не слышала об этом.
И снова Хоуэл почувствовал сопротивление Харгрейва.
— Это не слишком приятная история, — сказал Харгрейв. — Я сомневаюсь, что Мэри будет интересно.
— Конечно, ей будет интересно. Вы единственный из наших знакомых, кто жил в стране в то жестокое время. В конце концов Мэри — врач. Кровью ее не испугаешь. Я уверен, мистеру Хоуэлу тоже интересно послушать.
— В то время страну захлестнула волна насилия, — начал Харгрейв. — Везде царило разорение. Как вы знаете, я работал тогда горным инженером, управлял маленьким золотым прииском в Сантандере. Консерваторы и либералы истребляли друг друга.
— Страна была разделена на два враждовавших между собой лагеря, — пояснил Хоуэлу Уильямс. — Консерваторы и либералы. Консерваторы представляли крупных землевладельцев и духовенство. Либералы — практически всех остальных.
— Армия и полиция встали на сторону консерваторов, — продолжал Харгрейв. — Впрочем, это само собой разумеется.
— А вот и нет, — возразил Уильямс. — Почему армия и полиция должны быть на стороне одной из партий?
— Так было всегда, — заверил Харгрейв. Впервые Хоуэл услышал в его голосе уверенность. Харгрейв производил впечатление человека, который знает, что говорит.
— Вы хотите сказать, что армия и полиция посягнули на основы демократии? — спросил Уильямс.
— Я не понимаю, о чем вы говорите. Я рассказываю о реальной политической жизни Латинской Америки. Так было всегда. Слово «демократия» во многих из этих стран не сходит с языка простых граждан, а тем более политических деятелей. Но оно здесь ровно ничего не значит. Незадолго до того, как насилие захлестнуло страну, дважды проводились выборы, к повторным выборам допускались только консерваторы.
Эта мера вызвала некоторое недовольство, но никто даже не удивился.
Раздался размеренный властный голос Уильямса.
— Я читал конституцию. Подобное неравноправие запрещено законом.
— Не знаю, что написано в конституции, а в жизни было именно так, — сказал Харгрейв. — При голосовании человеку ставили штамп в удостоверении личности. Поэтому всегда легко было определить, кто на чьей стороне.
Читать дальше