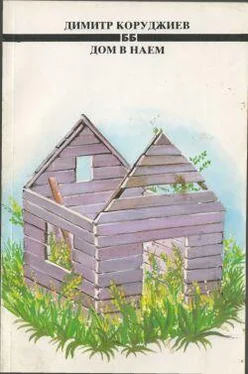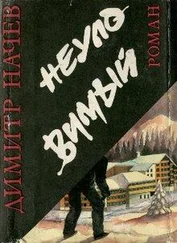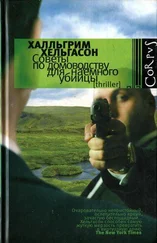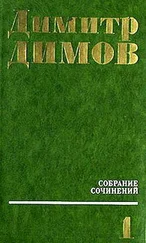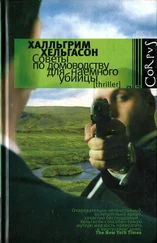– Не нужно начинать… – Стефан тяжело поднялся. – Работа есть работа, а ты не уважаешь ее… Пойду поковыряюсь в саду.
Матей тоже встал, проводил его взглядом: уверенный шаг, коренастая фигура, походка в развалку, как медведь. Походка подтверждала лучше, чем что бы то ни было, каменную непоколебимость его принципов.
Когда-нибудь им предстоит поговорить и о земле, и о деревьях. Ничто еще не кончилось. Но почему, в самом деле, почему? Почему бы ему не слушать его, не слыша, почему бы не отвечать безразличными „да" или „нет" на слова этого безынтересного человека, чтобы не создавать себе неприятности? Да просто не мог он, нельзя ему было поступить по-другому. Не является ли тишина, ее безмолвная забота чувством ответственности, материализованным в самых тонких энергиях? Чем еще, кроме ответственности, он может расплатиться за все пережитое в этом доме? Чувство ответственности – здесь не бубнили о нем со всех сторон, не рекламировали его как новый товар, он сам его открыл.
– Пошла… – послышалось из сада.
Хозяин гнал белую собачку – она пробежала по вскопанному. Матей закрыл глаза и увидел свою бывшую жену. Ее воспоминания об их жизни, какими он представлял их себе, текли безжалостно, напряженно, он не был в состоянии остановить их – из-за этого ужасного „пошла"… Неверность, вранье, пьянки, измены самому себе – известные лишь ей одной; но и его пылкость, врожденный артистизм…
Она не найдет второго такого, как я.
Она меня не знает, я уже не тот.
И прежде во мне было нечто, что позволяет мне сейчас меняться.
Как он хотел стоять и молчать вместе с ней здесь, под соснами.
Ты ли это, Матей, чем ты занимался эти три года, с тех пор, как мы развелись, знаешь, дорогая, хотели, чтобы я сделал фальшивый фильм о строительстве водохранилища, и я отказался, слышала что-то, но не думала, что ты так поступишь, да, отказался и теперь понимаю: главное потому, что ты будешь его смотреть, боже мой, Матей, это верно, дорогая, нужно было прожить полгода с другой женщиной, чтобы понять – никто, кроме тебя и детей, кроме моих родителей, не любил меня по-настоящему, мне было все равно, что я буду снимать для этих людей, которые не любят меня (хотя внешне я и оставался прежним), но для тебя, для тебя-то, и ты знаешь, что интересно, – стоит один раз отказаться, начинаешь хоть немножко считаться с собой, чувствовать уважение к себе и не хочется разочаровываться в своем следующем шаге, как же так, Матей, ты выглядел сильным и раньше, ну нет, то было другое, уверенность мне придавали компромиссы, мне ничто не угрожало тогда, совсем наоборот – разные важные люди хвалили меня, поддерживали, абсолютно фальшивая мощь, если можно говорить, что я сильный, то только сейчас, потому что мое сознание свободно от подробностей (так бывает, когда человек в одиночестве), в нем разместились основные вещи, основные образы – ты, дети, мать, отец, когда они были молоды, друг детства, который живет в нашей квартире со своей семьей, но хочу продолжить: так прошел целый год, а я все думал, что ты скажешь, когда увидишь мою следующую картину, поэтому отказался и от второго предложения, но ты… но ты с ума сошел… разве у тебя не было собственного замысла, нет, все, что приходило мне в голову, ощущал как имитацию, каким ты стал взыскательным, верно, дорогая, но у меня не было своих идей, ибо жил по-старому: клубы, слова, слова, имитация жизни, инерция, смутно догадывался, что мне нужно – муки, перемена, и они пришли… вот, ахилл… три недели не спал, не давала боль, бедненький, как ты сюда попал, и сам не знаю, да, точно не знаю, все одно к одному – мысль о том, что скажешь ты, два отказа (они придали мне немного куражу), потребность страдать, жажда перемен как единственный шанс, ты будешь поражена – я уже не думаю только об успехе…
Когда присел на стул, когда заснул… А потом стемнело, и хозяин потихоньку ушел.
Владко и жена начальника почты – какая странная близость (Матей называл ее Начальница, Владко-мадамчик.) Они встречаются по нескольку раз на день. Он выходит, садится на лавочку, его глаза отрешенно следят за извивами дороги. Со стороны села идет Начальница. Не идет – плывет к трактиру в потоке белых домашних птиц, руки раскинуты, на одной повис ребенок. Он желтый, очень худой, похож на моль. Это – девочка. Они устраиваются рядом с Владко, с двух сторон: группа, которая вызывает у нас ощущение вины. Время идет. Остальные люди, весь мир не дают о себе знать. Почувствовав, как все трое захлебываются в пустоте, Владко пытается заселить ее – в сотый раз – рассказами о своем цирковом прошлом и историей своего провала. На Начальницу нахлынули города, толпы людей в чужеземных одеждах и голос Владко, он поет, ее любимый, одетый в белое, невинный, с белой душой. Его голос проходит сквозь земной хаос нетронутым. Почему? (В его глазах трепетала красивая бабочка, там, высоко, на проволоке…) Но эту подробность Начальница не знает, зато рассказ неизменно интересен из-за своей явной незавершенности. Она вся настороже и ждет, наверное, догадывается… Ну и? Какой-то „мизерабельный грипп" обрывает струны Владкова голоса.
Читать дальше