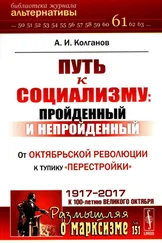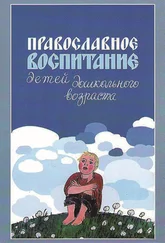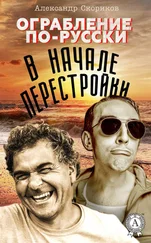Смерть — естественный финал для «дурных детей». Не потому, что человек смертен. Герои погибают, поскольку их время вышло. В ожидании казней египетских, всадников Апокалипсиса, грядущего Антихриста, запрокинув головы в мрачные небеса, они понимают, что «не переживут этой ночи»: жить осталось немного, ведь скоро закончится ХХ век, а с ним — История… И потому, не дочитав Шпенглера и Фукуяму, они принялись охотиться за Кастанедой: «…в целом она становилась всё более похожа на прогнившую берендеевскую бабку, которая что-то несёт про космические миры и какие-то энергии, криво прочитав первые два тома Кастанеды. Казалось, она вот-вот сядет в ступу и будет носиться по орбите внутри звёздного купола».
«Дурные дети» всегда пребывают на границе двух миров (а то и более): «Короче, Конец Света и торч, с одной стороны, и Жизнь Вечная, с другой стороны». Увлечение немецкими романтиками и «Соловьиным садом» Александра Блока вылилось в галлюциногенный эскапизм, не отягощённый культурной символикой, а забава многих советских ребят — коллекционирование марок — сменилась потреблением… «марок». Сравните: «Опьянённый вином золотистым, // Золотым опалённый огнем, // Я забыл о пути каменистом…» (А. Блок, «Соловьиный сад») — «Беккер перед каждым сеансом заправлялся самодельной брагой. Варил он её дома и выдерживал в подвале в украденном алюминиевом бидоне. После десятка поварёшек в нём появлялось нечто похожее на опьянение, Дима как будто веселел, его начинало тянуть на приключения и подвиги» (К. Шаманов, «ДДП»); «У него марки, у него! — сообразил я. <���…> Я не такой дурак, чтобы надеяться, что они вернут мне кляссер. Ведь и в самом деле в нём две ценные марки, а одна — из магазинного альбома» (К. Булычев, «Другое детство») — «Крутые у него „марки“, я вчера весь день, как у Дона Хуана, с кошкой своей разговаривала…» (К. Шаманов, «ДДП»).
Иногда это странное и страшное сосуществование молодых людей между жизнью и смертью, явью и сном напоминает барочные изыски Педро Кальдерона де ла Барки, иногда — советский анекдот: «И долго нам так стоять раскорячившись?!» Наверное, потому, что Perestroika и была таинственным историко-культурологическим движением вспять: от соцреалистического классицизма (по Синявскому) к постсоветскому барокко. Система разбиралась по кирпичикам, растаскивалась по камушку, как древнеримские памятники архитектуры — это было жутко и интересно, интересно до жути: сняли крышу — увидели звёздное небо («Потом — полудегенеративное хипанское веселье с гитарами и дудочками под высоченным хакасским небом со слепяще белыми, кучевыми облаками…»), разобрали пол — заглянули в преисподнюю («От побритого налысо, в длинном белом плаще и плеере, Вовы исходила какая-то плотная демоническая сила. Безумие так бросалось в глаза, что трудно было даже просто находиться рядом, и в этом безумии чувствовалась какая-то фатальная отрешённость»), снесли несущую стену — вступили в новое пространство («…мы, как акулы, маневрируем в течениях тёмной воды, в ночном, будто подводном, пространстве Петроградской стороны»).
Как сумел выжить юный Кирилл? Можно назвать много причин. Можно сказать, что ему просто повезло. Но поскольку перестройка свершалась не где-нибудь, а в СССР, в России, а «дурные дети» были когда-то октябрятами и пионерами, то главной причиной, на наш взгляд, явилось умение героя быть талантливым рассказчиком, свидетелем и сказителем, Бояном своего времени («Боян» не намёк на «баян» — sapienti sat). Нарратив спас героя: Шаманов сумел «заговорить» свою боль, свои поражения и напасти. Пропев «хулительные песенки» тем, кто тащил его вниз, в Небытие, герой спасся. Вспоминая умерших и припоминая выживших, он — на руинах Империи — выстроил себе «укрылище», заново структурировав своё сознание, а через него — реальность.
Шаманов выжил — и написал роман «ДДП» («Дурные дети Перестройки»), который на деле может читаться как «ПДД» — «Памятник дурным детям». Спасибо тебе, Кирилл…
Алим Турсинбаев
Я всегда подозревал себя в неидеальности и даже в смертности. В течение пары лет я, инвентаризируя память, прописывал по определённой схеме всех своих знакомых, каких мог вспомнить, группировал их по типам и ситуациям. Выяснял, как я к ним на самом деле отношусь, какие чувства они у меня вызывают и нужны ли мне эти чувства, чтобы разобраться в себе и в обстоятельствах, которые меня окружали. В результате письменного «перепросмотра» я определил причины конфигурации моей жизни и психики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

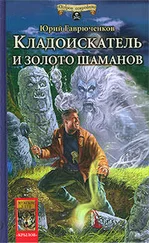
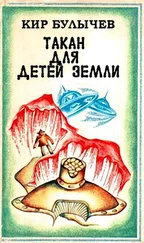
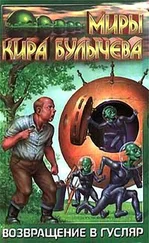
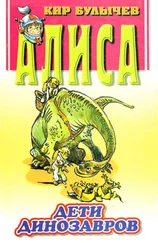
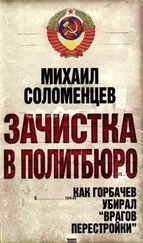
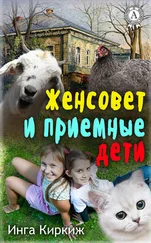
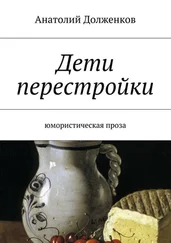
![Кира Измайлова - Отцы и дети [СИ]](/books/392305/kira-izmajlova-otcy-i-deti-si-thumb.webp)