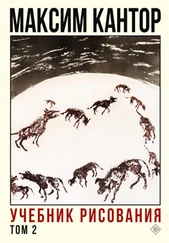— Лекарства мне Юленька присылала, — сказал Соломон Моисеевич, — дорогие заграничные лекарства. Жизнь спасла.
— Лекарства надо в аптеке покупать. Пенсионерам скидка. А от дорогих лекарств вред один. Посчитала я твои лекарства — в полторы тысячи твои таблетки нам влетели.
— Но Юленька прислала их от чистого сердца, — заметил Соломон Моисеевич.
— Где это у нее чистое сердце было? Не надо нам от ее сердца ничего. Вот они, полторы тысячи. Да тех еще триста семь рублей. И двадцать пять копеек. Тысяча восемьсот семь рублей двадцать пять копеек. И шоферу я тут положила. Не знаю, — надменно сказала Татьяна Ивановна, — сколько теперь буржуи за такси платят. А я считаю, сто рублей хватит. Всего тысяча девятьсот семь рублей двадцать пять копеек. Все здесь. Два рубля мелочью. Я тут написала, что к чему. Чтобы претензий не было.
Татьяна Ивановна стала запаковывать сверток: сложила деньги с запиской в конверт, обернула его вновь тряпочкой для надежности, перевязала тряпочку веревкой. Соломон Моисеевич в ужасе смотрел на конверт и тряпочку.
— Вот мы ей на выставке отдадим, — сказала Татьяна Ивановна. — Если эта прошмандовка придет.
— Как можно, Танечка? — сказал Соломон Моисеевич. — Это же некультурно.
Он собрался сказать несколько слов касательно этики и норм общежития, но иные события отвлекли его.
Татьяна Ивановна достала из кармана фартука женскую фотографию и предъявила ее Соломону Моисеевичу.
— У тебя в столе нашла. Это что за фифа такая?
Что мог ответить старый усталый Рихтер? Что некрасиво шарить по ящикам стола, что стыдно ворошить бумаги супруга? Что надо интересоваться содержанием бумаг — тем, что написано на листах, а не фотографией, заложенной меж страниц? Что подруга, изображенная на снимке, потому и стала дорога его сердцу, что заполнила вакуум, образовавшийся из-за отсутствия понимания, тепла, единения в помыслах?
— Это Фаина Борисовна, — сдержанно сказал Соломон Моисеевич, — мой добрый друг.
— Одной проститутки мало, так он другую завел. А потом и двух не хватило. Теперь еще одну шалашовку отыскал. Сначала Херовина старая…
— Герилья, — поправил супругу Рихтер, — Марианна Карловна Герилья, уважаемый товарищ моей матери.
— Сперва Херовину завел, — свистящим шепотом говорила Татьяна Ивановна страшные слова, — потом девку позорную в парке откопал, теперь еще одна гадюка сыскалась. У, паскуда! А жена зачем? А чтобы пол мыть. Домработница! Прислуга!
— Не надо, Танечка, — попросил Рихтер слабым голосом, — прошу тебя, не надо.
— Не надо?! А от жены гулять с молодыми паскудами — надо?
— Я ведь люблю тебя, Танечка, — сказал Рихтер устало. Он сам не знал, правду говорит или нет. Конечно, Татьяна Ивановна была бесконечно дорога ему, и годы, прожитые вместе, соединили их в одно существо — но вот жизнеспособно ли это существо? Больная, кривая жизнь; нелепые будни. — Я люблю тебя, — повторил Рихтер, — мы к Пашеньке на выставку собрались.
— Устроил ты мне выставку! Насмотрелась! Какая уж тут любовь! Убирайся туда, где тебе слаще, пусть тебя твои херовины согреют.
Татьяна Ивановна прошла в свою комнату, захлопнула дверь, легла на диван лицом к стене. Рихтер попробовал говорить с ней — она не ответила. Соломон Моисеевич сел за письменный стол, разложил перед собой бумаги. Работать не мог.
Именно сегодня скандал был вовсе ни к чему. В дни, которые требовалось посвятить всецело подготовке будущей парламентской речи — речи, призванной объяснить мир и направить его по прямому пути, — разве мыслимо тратить нервы, разум, время на глупые выяснения банальностей. На что уходят силы?
Рихтер сидел за столом, уронив седую голову на руки. Необходимо было собрать рассеянные мысли, успокоиться и приступить к работе. Близится час. Он выйдет на трибуну и скажет депутатам всю правду, он поведет их за собой. Он напомнит им слова Завета, и устыдятся тогда люди содеянного ими. Отвратят они лики свои от золотого тельца, преисполнятся правдой и мужеством.
Струев предупредил Соломона Моисеевича, что скоро отведет его в парламент. Как-то оно там устроится — Рихтеру безразлична была формальная процедура. Они сделают, что им в таких случаях полагается делать, и он согласится их вести. Что ж, семейные дрязги всегда были помехой великим делам, страдал от них и Сократ. Уйти из дома — но куда? Уйти прочь, как Толстой в последние, гордые свои дни. Можно переночевать у Марианны Карловны — подготовить там свою речь, обрести в ее лице преданного слушателя. Собрать чемодан — и пойти прочь, нет, не бегство от любви он задумал — но бегство к любви, к той единственной, светлой, что оживляет сущее, что светит во тьме бытия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
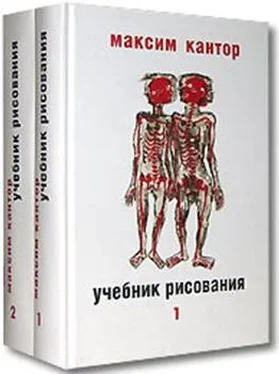





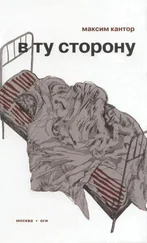



![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)