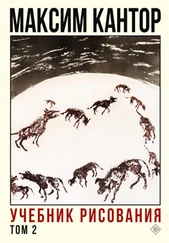— Ну что ж, — сказал Кузин, — если общество сделало шаг от простого продукта к товарному фетишизму, а затем от товарного фетишизма — к обожествлению свободы, можно порадоваться за такое общество.
— Но яблоко не стало слаще, свобода не стала свободнее. Теперь свободу выбросили на рынок, свобода — предмет обмена. Сегодня сильные делают вид, что свобода — объективная реальность, такая же, как разница между хорошим автомобилем и плохим. Делают вид, что свободой может обладать любой, используют деньги — в качестве акций этого предприятия. Попробуй, примени акции на деле. Ты можешь приобрести товары — то есть то, что имело отношение к предыдущей эпохе промышленного производства, то, что некогда символизировало права. Теперь у негритянки в Бронксе меховая шуба такая же, как у дивы с Бродвея, но равных прав у нее нет. Негритянку и тебя, русского профессора, обманули, — товар уже не воплощает власть. Настолько ты экономику должен представлять: тебе дают акции на владение фальшивым рудником. Рудника в природе не существует. Но акции действительно символизируют этот рудник. Насколько фальшивы настоящие акции несуществующего рудника?
— Однако люди, имеющие много таких акций, — заметил Кузин, — и пользующиеся фальшивой свободой, — они, тем не менее, свободны по-настоящему. Вон, Кротов, на таком лимузине катается, что машина в телеэкран не влезает.
— Чем фальшивее компания, тем длиннее автомобиль у менеджера.
— Дело в том, милый Семен, — сказал Борис Кириллович устало, — что свобода действительно — дым, газ, ветер. Но газ — веселящий, ветер — пьянящий. Мнимая свобода — все равно свобода, потому что пьянит так же точно, как та, что была бы настоящей. Расчет, может быть, у них и есть — но обмануть тебя они не могут. Пусть тебе всучили обманные акции несуществующей свободы, но если ты стал свободен хотя бы на миг — ты все равно свободен по-настоящему, навсегда.
— А ты, — спросил Струев, — был когда-нибудь пьян этим ветром?
И Борис Кириллович ответил:
— Я? Нет, не был. Но всегда хотел.
— И я, — сказал Струев, — не был. Но тоже всегда хотел.
VIII
— Ты собирался предложить мне какое-то дело, — напомнил ему Кузин, — какое-то сомнительное предприятие.
— Собирался, — сказал Струев, — но передумал.
— И правильно, что передумал. Твои предложения я знаю наперед. Мне уже несколько раз предлагали авантюры. — Кузин улыбнулся грустной улыбкой. — Заговоры, топоры и так далее. — Кузин улыбнулся еще более печально. — Я думал, мы повзрослели. Опять за старое?
И Борис Кириллович поглядел на Струева, как глядят на хулигана-второгодника: где этот балбес берет столько прыти? В себе самом Борис Кириллович чувствовал лишь усталость. Он сказал:
— Знаешь, почему я избегал авантюр?
— Скажи, — сказал Струев.
— Потому, что я — русский интеллигент.
— А декабристы? — спросил Струев. Откуда-то, из школьных лет, всплыли воспоминания о том, что декабристы, готовившие восстание, — родня русской интеллигенции.
Кузину был приятен разговор — слава богу, не надо прятаться на явке, готовя диверсию, но можно покойно расположиться с чашкой чая — и обсуждать культуру; Кузин в который раз умилился сложившейся ситуации. В чем-то проиграл. Но жизнь — выиграл.
— Обрати внимание, Семен, что три самых великих произведения в русской литературе были задуманы как произведения о декабристах — а написать их не смогли. Не задумывался над этим?
— Нет.
— Русская литература, — сказал Кузин, — в принципе не умеет оправдать насилие. Даже такое — неосуществленное насилие — и то не находит оправдания. Как доходило у великих писателей до описания заговора — и все, остановка. Неважно, что планы благородные, но — заговор против порядка есть вещь недопустимая в гуманистической литературе. Кровь нельзя оправдать ничем. Не получалось про это писать. Надо было посмотреть издалека, изменить ракурс, ответить на вопросы: почему так получилось, что заговор возник, отчего такие характеры сложились. Надо описать, отчего герой в любви разочаровался, и про его друзей, и про его семью рассказать. И отодвигали действие все дальше и дальше от самого заговора, так далеко, что уже и год описывали иной, и проблемы другие. Романы получались про любовь, про войну, про мир, а не про политику.
— А время шло, — сказал Струев с досадой.
— Ну, допустим, про ожидание и нетерпение диссертации написаны. Повторяться не будем. Когда иные люди спешили и совершали поспешные поступки — получалась Октябрьская революция. Мне кажется, что декабристы не меньше сделали, чем Ленин, но неизмеримо больше. Подвиг декабристов в том, что они никого не убили. Пришли, построились в каре — и дали себя схватить и повесить. Их бунт — это символ свободы, понимаешь? Не деньги, заметь, символ свободы — а личная жертва. Они оставили этот символ для тебя, для меня. Их смерть остается в веках, как костер Савонаролы, как казнь Мора. Важен принцип, за который идешь до конца. Это самое прекрасное в декабристах: они ничего не совершили, но провозгласили, за что идут на смерть. Дали себя повесить и сослать в Сибирь. Понимаешь?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
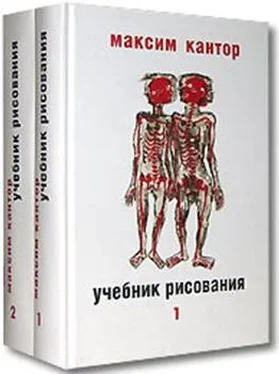





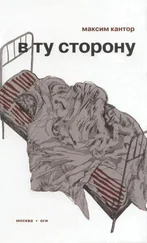



![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)