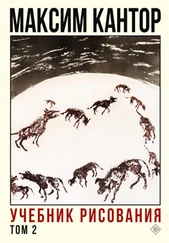Деньги, рынок, продажа — кого не волновали эти слова? Вы сейчас скажете, вас не волновали, — и наверняка покривите душой. Что, неприятно получить за свой труд деньги? Разве так уж неприятно? Идешь себе по городу и знаешь, что можешь открыть любую дверь, завернуть в любой кабачок — поди как худо. Пробовали? Если вы знаете, как хрустят в руке купюры, если вы хоть раз доставали из кармана тугой бумажник и ловили завистливый взгляд соседа, если вам случалось останавливать такси и сперва садиться, а уже потом говорить адрес, не заботясь, сколько стоит проезд, — тогда вы не будете хулить русских интеллигентов, потерявших голову от своей грошовой коммерции. У людей проснулся вкус к жизни. Журналистам подняли зарплаты, в журналах эстрадные певцы рассказывали о своих новых загородных домах, да и художники не остались в стороне: банкиры стали собирать коллекции произведений искусства. Один богач, торговец удобрениями, приобрел для своей дачи холст Модильяни; другой заказал в офис антикварную мебель красного дерева, Тофик Левкоев стал скупать так называемый второй авангард. У Эдика Пинкисевича он купил сразу пять картин.
— Что ж, в конце концов, именно купцы и составили теперешние коллекции музеев, — заметил Пинкисевич в частной беседе, — и, думаю, Левкоев из этой породы.
— А некоторые говорят, что Левкоев убил банкира Щукина, — мстительно сказал Стремовский, у которого ничего не купили, — как думаешь, правда? Я читал где-то, что он его распилил на мелкие части и рассовал по консервам «Завтрак туриста». Может, врут, а может, и нет.
— Врут, — убежденно сказал Пинкисевич, — Тофик интеллигентный человек. Вот только зря он деньги дает на перформансы Сыча. Этого я не понимаю, безвкусица какая-то.
— Да, профанация.
— А потом, — сказал Пинкисевич, подумав, — «Завтрак туриста» я сам ем. Консервы как консервы.
Раздражение Стремовского, впрочем, легко было понять и извинить: в обществе свободных и равных сразу сделалось понятным, что отныне мерилом таланта является не глухая подвальная слава, не самомнение творца, не его ночные бдения в мастерской и дневные борения с начальством — нет! Отныне мерилом его достижений является успех, потому как ничто больше его творчеству не мешает, никаких коммунистических вериг носить он не обязан, а значит — если можешь, так давай зарабатывай! А коли не можешь заработать, так что-то сомнительно, чтобы у тебя и впрямь был талант. Ведь глаза всего просвещенного мира устремлены на тебя, ведь никто более не затыкает тебе рот, ведь идеология (о, проклятая стоглавая гидра, что поглотила наши усилия и стремления!), идеология-то сдохла! Так что же мешает нынче творцу влиться в современный художественный процесс? Ну ровным счетом ничего не мешает. Что мешает ему получить признание людей прогрессивно мыслящих? Опять-таки ничего не мешает. А уж влившись в процесс да получив признание, сами собой приложатся и успех и деньги. Истина эта, простая и убедительная, оказалась до известной степени еще и обидной истиной. Иной творец, не получивший признания и денег соответственно, ловил на себе недоуменные и осуждающие взгляды коллег. «Что же выходит, — говорили эти взгляды, — не слишком-то он прогрессивный и талантливый оказался. Как же это получилось, что и та галерея его не заметила, и эта? Что-то здесь не складывается. Да, это вам не бороться с начальством, тут работать надо, участвовать в мировом художественном процессе». Тщетно стал бы такой неудачник ссылаться на горестные примеры некоторых художников, что были не совсем успешны по части реализации своей продукции. «Ха-ха, — говорили ему, — Ван Гог и Модильяни! Ты еще про баснописца Эзопа вспомни! Насмешил! Когда это было? Каменный век, кризисы перепроизводства, мировая война, то, се. Теперь-то уже все иначе, в открытом обществе. На свободном рынке всякому таланту дали слово, потому что любое интересное высказывание — это потенциальный рыночный товар. Мир нынче устроен так, что талантливый человек только рот раскроет, а уже галеристы и издатели роем летят — с предложениями. Потому — рыночная система! Потому — плюрализм мышления, демократия. Все продается, было бы что за душой. Если у тебя есть убеждения, мысли, талант — стало быть, можно их продать. А не продал ничего — ну, брат, извини. Может, у тебя и нет ничего на продажу?» Так говорили люди знающие, и в их словах было трудно усомниться. Конечно, иные пылкие натуры пытались поймать их на слове и, воздевая руки к небу, восклицали: «Ах, как же так! Нет, не станем мы продавать свои убеждения, не станем!» Таким мелодраматическим репризам находился четкий ответ: «Оставьте, пожалуйста, вашу романтическую терминологию и не ловите нас на слове. Да кому нужны ваши убеждения, помилуйте? Как-нибудь без них цивилизация обойдется. Сказано же поэтом — „не продается вдохновенье, но можно рукопись продать“. Продукцию давайте для рынка — больше от вас и не нужно ничего. А если нет у вас товара, вдохновленного вашими убеждениями, такого товара, чтобы прогрессивная общественность могла пустить его в оборот — так, стало быть, и убеждения ваши ни к чему». Поспорить с этой ясной формулировкой было трудно. Тем более что всякий день страна показывала на своем примере, что еще и эти двадцать четыре часа существования отвоеваны тем, что удалось продать никому не нужный завод, заложить под проценты бездействующий грузовой терминал, сдать в аренду горно-обогатительный комбинат. Успевай только поворачиваться — и дело пойдет. А не идет у тебя дело — ну, брат, тут целиком твоя вина. И глядя на улыбающегося Пинкисевича, Стремовский горько усмехался. Впрочем, возможно, это лишь временный успех. Вряд ли Пинкисевич уловил дух времени. Ведь определенно говорят, что на Западе абстракция уже не котируется. Разберутся и наши банкиры — что современно, а что нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
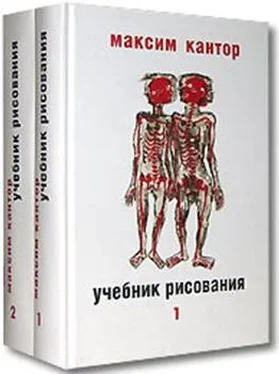





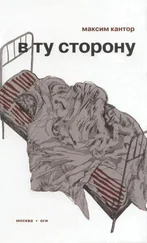



![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)