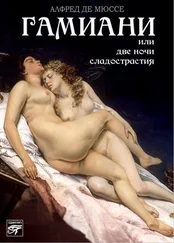— Ну, вот и кончились и прошли наши с тобой двенадцать лет... — говорил я, разглаживая его лицо, стараясь, чтобы он посмотрел на меня, а он все смотрел себе на переносье, как бы созерцая нечто внутри себя, что-то навеки озадачившее его. — И каких лет! Ведь целая жизнь с невыносимыми страданиями, но зато и с таким изобилием счастья, которое нам и не снилось!
Одно было для меня утешение в ту горчайшую минуту, что умер он сразу...
В просторной пустой избе лесного объездчика умирал Николай Михайлович Акользин — бывший кандидат и доцент, бывший москвич и теперешний лесничий, не успевший даже вступить в должность. И эта изба, люди, жившие в ней, лес за окном, частые дожди и ветер и его смерть казались временами Акользину чем-то неестественным, диким, ненастоящим, хотя как раз все было вполне естественно, закономерно и вовсе не дико.
Приехал в лесничество Акользин месяц назад. Он был болен давно, но на пароходе ему стало так худо, что он даже заплакал раз, когда никого не было в каюте. Предсмертная тоска впервые охватила его.
А тот день, когда Акользин, с самого утра сидевший на палубе и жадно смотревший по сторонам, уже подъезжал — тот день был пасмурен. Низкие равномерные облака обложили все небо, нигде не было просвета, лес по обеим сторонам реки был красно-темен, а деревни — сизы. Порывами налетал ветер с дождем, над рекой повисала водяная пыль, ивы на берегу кланялись, встряхивались, выворачивали листья и становились серебряными.
Была середина сентября. Начал облетать лист, березы сыпали желтым, везде на лугах был поздний сенокос, и маленькие стожки уже стояли на пожнях. И чем дальше на север, тем чаще попадались заколоченные, покосившиеся, обомшелые по крышам деревянные церкви. «Наконец-то! — со слабым восторгом думал Акользин. — Наконец я вижу это! Эти церкви — как музыкальный грустный звук севера. Ах! Куда все-таки меня занесло!»
Есть что-то странное, затягивающее и щемящее в осенних поездках по глухим рекам. Моросит дождь, шаркает по палубам ветер, река как-то темна, оголена и особенно широка. Плывет навстречу редкий молевой лес, глухо стукается о пароход, бревна лениво выворачиваются из-под бортов и уходят назад. А пароход пуст, почти безлюден.
Пристаней давно нет. Пароход дает на плесах длинный свисток, круто разворачивается и пристает против течения к берегу. На берегу, в тех местах, куда, налезая носом на гибкие ивы и кочки, пристает пароход, — жгут костры, молча стоят и сидят ребятишки, бабы с ребятами на руках. С парохода ссовывают длинную доску-трап, сходят немногие пассажиры, еще реже входят... Пахнет горечью осенней земли, корой ивы, речной сыростью, дымом от костра. Стоят наверху большие северные избы с высокими поветями, с маленькими окошками, со «съездами». Голоса слышны громко, речь странна и чудна для приезжего.
День сменяет ночь, еще более сырая, холодная и туманная. Пароход идет медленнее, осторожнее, посвистывает чаще. Загораются красные и белые огни на бакенах и створных знаках, берега далеки, темны и безжизненны. И особенно уютным кажется в такие ночи пароход, его огни, его шипение и постукивание, его гулкие долгие свистки, от которых по телу проходит внезапный озноб. Хороши встречные буксиры, поплевывающие паром, хороши длинные темные баржи или плоты с шалашами, с кострами и тенями людей возле них. Хорошо это долгое задумчивое, спокойное плавание, хорошо пахнет дровами и теплом возле машинного отделения, особенно сладким и теплым бывает пар, пробивающийся из какой-нибудь трубы на палубу, и совсем не хочется уходить вниз, в каюту, а хочется сидеть всю ночь, пригревшись возле трубы, закутавшись в пальто, дышать чистым воздухом и думать о своей и чужой жизни.
И Акользин, видевший все это впервые в жизни, горько жалел, что не знал этого раньше. Что-то сдвигалось в нем, открывалась какая-то пустота, в которую он никогда не заглядывал раньше, и странные мысли о времени, о жизни появлялись у него в те короткие минуты, когда пароход останавливался, замолкал, и такой глубокой становилась тишина, так странно звучали голоса, так все жило и пахло, что ему становилось не по себе.
Он вспоминал свою жизнь и не только свою, но и жизнь страны — мысленно он быстро пробегал исторические повороты, революции, войны, и ему все это естественно и всегда казалось, что ничего важнее этого быть не может. Раньше он всегда волновался, читая газеты, следя за политикой, представляя себе те катаклические взрывы социального, которые происходили на земле. Он любил думать и говорить исторически, то есть пользоваться широкими категориями. Он слушал и сам говорил: «народ», «борьба», «революция», «пафос», и будто неведомая восторженная сила поднимала его высоко над земным шаром — он видел страны и революции, он видел бесчисленное колыхание народных масс, охваченных пафосом стремления к лучшей жизни.
Читать дальше
![Юрий Казаков Две ночи [Проза. Заметки. Наброски] обложка книги](/books/288695/yurij-kazakov-dve-nochi-proza-zametki-nabroski-cover.webp)