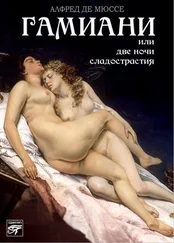— Как вас звать? — спросил он.
— Леночка, — тоненько сказала она, все еще глядя в воду.
— Ну, пойдемте, Леночка! — сказал он, взял ее за руку, и она послушно, робко пошла с ним мелкими шажками в своем тугом шелестящем, наверное, первом шелковом платье. Они свернули на Зимнюю канавку и опять остановились. Здесь было темно, чернели ровные, без украшений стены, поблескивали окна, зыбко струилась вода, а сзади светился пролет моста и арка перехода в Эрмитаж.
— Господи, что подумает мама! — сказала Леночка и с мольбой посмотрела на Агеева. И сейчас же застыдилась, заторопилась, пошла, постукивая каблучками по каменным плитам, — так понравился ей, так поразил ее Агеев, который в ту ночь был особенно хорош и молод, особенно решителен, взволнован и бледен той особенной бледностью, которую вызывает только любовь, только страсть и гибель!
Он догнал ее и снова взял за руку. Рука ее стала дрожать, а у него пересыхали губы, кружилась голова, и он уже ничего не чувствовал, кроме одного, что он погиб, что это невозможно, что этому никто не поверит, если рассказать. Они шли каналами, заворачивали, возвращались, переходили пустынную светлую Дворцовую площадь, подходили к Исаакию, в вышине над которым бледно сияла, горела громада купола, стыли темные страшные ангелы. Им встречались такие же, как и они, молчаливые пары, но они уже не видели ничего — начиналось между ними то, чему нет названия, что сотрясает все тело безумием, что может в один день перевернуть жизнь. Разговорились по-настоящему они только под утро и конечно же говорили о своей жизни, о своих мечтах, поражаясь тому, что они встретились, и ужасаясь при мысли, что могли никогда не встретиться.
А расстались они на рассвете. Она жила возле Таврического сада, и Агеев проводил ее до самого дома, до старинных дубовых дверей на втором этаже. Горели по обеим сторонам площадки цветные витражи, бросали странный розово-лиловый свет на лицо Леночки. И она показалась ему от этого незнакомой и печальной. Она сказала ему на прощанье:
— Вы знаете, я боюсь... Я боюсь, у меня никогда больше не повторится такая ночь! Я так счастлива, что почти больна, и чувствую, что должна расплатиться за это... Это — как перед пропастью!
Он хотел поцеловать ее, но не осмелился, прикоснулся только сухими губами к ее руке. Он спустился вниз, постоял у подъезда и пошел домой, глядя себе под ноги, чувствуя одну только легкую печаль. Они условились встретиться в первую субботу, а через день он внезапно уехал в командировку. Уже собравшись, перед тем как ехать на вокзал, он имел время зайти к ней, предупредить, узнать адрес, но не пошел... Не пошел нарочно из-за какого-то мгновенного упрямства, с едкой радостью думая о том, как она огорчится, отчается, когда он не придет в субботу, когда пропадет, исчезнет для нее на много дней, и каким зато счастливым будет их свидание, когда, вернувшись, он придет к ней.
Как жалел он потом об этом! В какой сладкой тоске и муке прошли для него эти два месяца! Как часто просыпался он среди ночи в какой-нибудь душной избе, и, не в силах больше лежать, вставал, и выходил на поросший мелкой курчавой травой двор. Овцы вскидывались и стучали копытами по убитой земле, пока он пробирался сенями. А на дворе его встречала все та же таинственная, могучая красота ночных лугов, наливающихся ржей, росы на огородах, крепкого томительного запаха холодной картофельной ботвы, пыльных широких дорог, тянущихся, как ему казалось, через всю Россию... И присев где-нибудь на бревнах, чувствуя ноющую усталость во всем теле, натруженном за день, он курил, думал о Леночке, вспоминал ее голос, ее слова, ее глаза и руки, ночные здания, темноту и свет, и Неву, и свое безумие, — дух захватывало у него, грудь стеснялась, а на глазах выступали слезы, и он тогда слабо и небрежно усмехался, как бы стыдясь перед кем-то этих слез.
И вот наконец он дома, в Ленинграде, и еще не кончились белые ночи, теплота камней, прозрачность и остекленелость неба. И целый день наслаждался он мыслью о свидании, нарочно ни к кому не заходил, никому не звонил, боясь растратить то великое, что узнал, накопил он в себе за эти два месяца. Только ей одной хотел он рассказать о туманных рассветах, о деревнях, о запахе жилья, о бесконечных русских дорогах, о полыхающих зарницах, о страшных лиловых грозах... Для нее он так тщательно одевался, наряжался сегодня, все больше возбуждался, холодел и горел, воображая ее прощение, ее доверчивость и любовь.
Читать дальше
![Юрий Казаков Две ночи [Проза. Заметки. Наброски] обложка книги](/books/288695/yurij-kazakov-dve-nochi-proza-zametki-nabroski-cover.webp)