И вдруг — воспоминание, как отец — к Новому — какому? — году прислал — в ящике — с шофером — хворающему Витьке — и мне — мандарины и яблоки — я помню запах…
Болезнь в детстве приятно замедляет жизнь, выводит ее ненадолго из-под давления возраста. Я любил болеть в самом конце зимы, в марте, чтобы — выздоровев — медленно, слабыми ногами выйти из темного подъезда уже на весеннюю, новую, яркую до прищура и пока еще робко журчащую улицу. Черный, колючий снег по краям мостовой. И воздух, в котором звонко слышен каждый звук, голос. Этот воздух — радость. Этот воздух — предчувствие.
В начале пятидесятых годов наша улица Фурманова (б. Нащокинский пер.) была еще с булыжной мостовой. Как радостно и весело было выбежать к друзьям из полутемного подъезда, увидеть голубое прохладное сияние раннего апреля и витые струйки солнечной воды, журчащие между крупными и чистыми булыжниками.
Собаки улицы Фурманова. Королевские пудели Славиных, спаниель Нагибина, овчарка Габриловичей, спаниэль и боксер Варшавских… И тот чудный сеттер, никому не принадлежавший, бегавший по улице. И каждый раз напоминавший строчки из стихотворения Веры Инбер: “Был славный малый и не дурак ирландский сеттер Джек”.
Желтый двухэтажный дом на углу нашей улицы и Гагаринского переулка, старый, облезший, в трещинах и лохмотьях, первым отколупав замазку и сорвав газетные полосы, распахивал немытые еще с зимы окна. Галдеж, плач, смех и брань, весь этот коммунальный шум, воняющий едой, теснотой, бедностью и пьянкой, рвался на улицу. Население в этом доме было как на подбор, бойкое и скандальное. Однажды, правда, они присмирели. Со стороны Гагаринского, между двумя окнами вдруг укрепили прямоугольную мраморную доску и до поры закрыли ее холстом. Наконец, появились какие-то автомобили, автобус, какие-то люди, и высокий писатель с седыми висками и орденом Ленина, привинченным к лацкану хорошего пиджака букле, заикаясь, сказал речь. Это был Сергей Михалков. Холст сняли. На мраморе золотыми буквами было написано, что в этом доме останавливался Пушкин.
Потом Шпаликов часто приходил ко мне. И — вместе с Инной Гулая, снявшейся у Льва Кулиджанова в картине “Когда деревья были большими”, — к жившему напротив меня в двухэтажном “доме Карахана” Юрию Никулину. И появились стихи:
Здесь когда-то Пушкин жил,
Пушкин с Вяземским дружил.
Горевал, лежал в постели,
Говорил, что он простыл.
На самом деле в этом доме Пушкин дружил с Нащокиным, а не с Вяземским. Но Вяземский лучше укладывался в размер, так и остался. Нащокин или Вяземский, какая разница? Гена пренебрегал такими тонкостями.
Одна комната из трех у нас сдается. Сначала офицер, интендант с белыми погонами, очень тихий, потом чудовищно напивающийся и исчезающий от ужаса. После этого решено было сдать женщине. Так появилась “Трехнутая”, врач Роза Савельевна. Я ужасно стеснялся из-за жилички и ненавидел ее.
Когда она уходила на работу, я проникал в ее — мою — комнату. Там мне все было неприятно, все ее вещи.
Но благодаря Трехнутой я посмотрел “Тарзана”. Попасть в кино на него было невозможно, стояли небывалые очереди. В ее поликлинике — кажется, она была на Арбате — ей выдали билеты, а она отдала их мне.
Возможно, она была несчастна.
Но разве подростку есть до этого дело?
В той же комнате — детской…
Там мы сначала жили с братом. Потом он после всех семейных катаклизмов переселился в бывший кабинет отца — и стала “Витькина комната”.
В той же детской я первый раз увидел Э Т О.
Прибежал со двора, где играл и носился с Алёшкой Габриловичем, открываю дверь в свою комнату. Домработница Шура и пожарник. Уж конечно, пожарник. И что-то голое, двигающееся, словно светящееся в солнечной полутьме…
Вот ведь! Денег не было, а домработницы были. Становились своими, жалели маму, любили меня и терпели от меня. Я был ужасен!
“По сути, это детское убеждение: нет никого подлее меня”.
Франц Кафка
Тоска по собственному детству, презрение, жалость и любовь к себе…
В детстве я мечтал быть обиженным. Чтобы я мог или наказать, или простить. Но это общее место для возраста. Вспомним “Детство” и “Отрочество” Толстого.
Я жил — в детстве, но я не жил — детством. Пожалуй, оно казалось мне слишком скучным, в отличие от того, что было за его невидимой границей. Детство не радовало, не веселило, оно меня унижало и обижало, и я старался забыть его, еще не расставшись с ним. Я изменял ему — с будущим, которое, наступив, сразу же стало изменять мне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
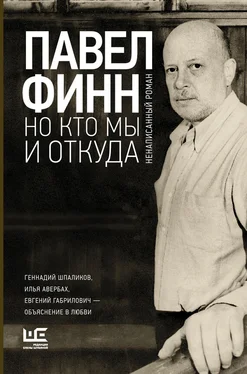





![Павел Байдебура - Искры гнева [роман и рассказы]](/books/403961/pavel-bajdebura-iskry-gneva-roman-i-rasskazy-thumb.webp)

