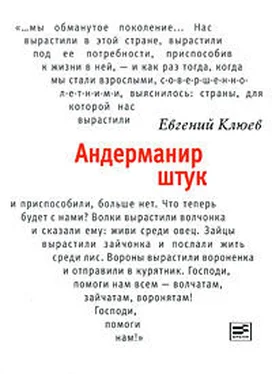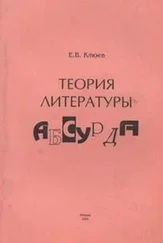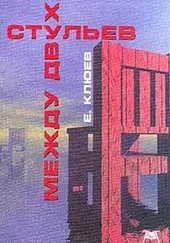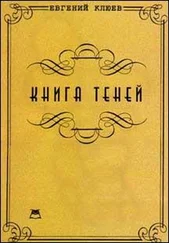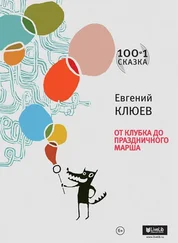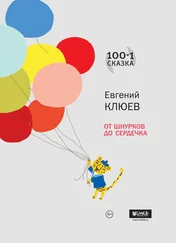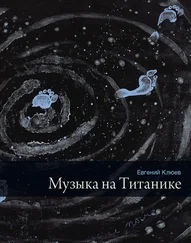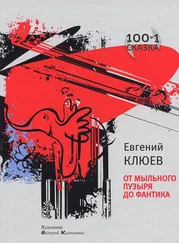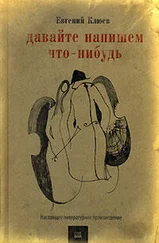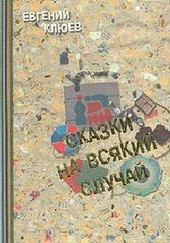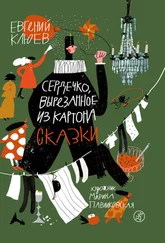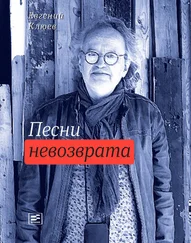На момент поступления на работу в академию кондукторы не были знакомы друг с другом лично – это Коле Петрову, может, и стоило бы поставить в заслугу, но в заслугу, скорее, перед НИИЧР, чем перед академией. Стало быть, Коля Петров ничем и не рисковал, сводя кондукторов вместе, – особенно если принять во внимание тот факт, что каждый из них в свое время дал подписку о неразглашении сотрудничества с НИИЧР. Общего прошлого и общего же секретного настоящего кондукторам, получалось, обнаружить не предстояло. Впрочем, конечно, с их-то способностями…
А насчет Коли Петрова в качестве заведующего кафедрой гипноза и суггестии все было ясно с самого начала: основным местом работы для него по-прежнему оставался НИИЧР – кафедра требовалась ему исключительно как украшение. Впрочем, сотрудники кафедры, тут же и раскусив, с кем они имеют дело, предприняли все необходимое для того, чтобы украшение воспринималось завом как совершенно естественное и не требующее никаких забот о себе. На кафедре считалось, что, чем реже зав вынужден будет появляться на работе, тем лучше и для него самого, и для сотрудников, и для студентов.
Правда, вот со студентами все было не сильно хорошо. Первый набор в школу Бориса Ратнера оказался совсем слабым: обучение объявлялось платным, а платить в середине девяностых могли преимущественно те, кто не мог ничего другого. Уже через пять-шесть месяцев половина студентов отсеялась, половина второй половины, продолжая приходить на занятия, начинала подумывать о том, что насмешки друзей и родственников над выбранным ими учебным заведением, скорее всего, закономерны и что пора уже, видимо, заплатить за что-нибудь менее экзотическое. Надо сказать, учителя, увидев, что коридоры академии быстро пустеют, облегченно вздохнули все как один: перспектива воспитания экстрасенсов сотнями была единственным, что омрачало их – в принципе, лучезарное – существование здесь.
Сам Ратнер в аудитории пока не был: он убедил себя, что готовится к «главным боям» и что главные эти бои впереди, где-нибудь к третьему курсу, а с новобранцами ему, дескать, и говорить не о чем. Такая стратегия объяснялась отчасти еще и тем, что стеснялся он своих выдающихся подчиненных – известных, как оказалось, не в близких ему эстрадных кругах, а в далеких от него научных. В научные же круги ему хода не было: оставалось только заниматься администрированием учебного процесса да удивляться, почему это здесь, в академии, его телевизионная популярность не возбуждает никого, кроме и так возбужденных от природы сотрудников бухгалтерии. Впрочем, у Ратнера хватало ума ими и довольствоваться, с завистью наблюдая за тем, как легкое облачко студентов вьется и вьется возле то Устинова, то Вилоновой, то Крутицкого, то Струнка… любимых студентами до обожания, а сотрудниками бухгалтерии и замечаемых с трудом: э-э-э, Крутицкий… это такой дедушка в панаме?
– Крутицкому замену придется искать, – сказал Коля Петров Ратнеру перед самой сессией.
– С какой стати? – ошалел тот. – Нам же студенты тут революцию устроят…
– Сломался Крутицкий, – развел руками Коля Петров, словно говорил о какой-нибудь механической игрушке. – С такой и стати…
41. ТЫСЯЧИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИВШИХ РУБЛЕЙ
Теперь пора было уходить.
А он все не уходил. Он все смотрел и смотрел на карту, не на карту даже – на черно-белую ее копию, к которой постепенно начинал привыкать. Правда, привыкалось трудно – не привыкалось, в общем, совсем, что уж греха таить! Сколько он прожил с разноцветным оригиналом. восемь лет, десять? Маше было пятнадцать, когда пропал ее отец. Пришел тогда к Пал Андреичу, карту на стол тихонько положил, кивнул ему и чуть ли не на цыпочках вышел – Пал Андреич знал куда. И догадывался, что – навсегда, но – молчал. Да и удержишь ли. вот хоть как и его самого сейчас, удержишь ли?
Пал Андреич снова достал из тайника (имелось у него в письменном столе специальное такое пространство, образованное спинками ящиков, не доходившими до задней стенки стола) сложенную ввосьмеро «простыню», которая даже на ощупь была другой, другой, другой… не-зна-ко-мой, чужой, мертвой. Нет, Лев-то, конечно, сделал все, что мог, на небольшом библиотечном своем ксероксе: с самого начала понятно было, что карту придется копировать частями. Потом – помнится, целое воскресенье – Лев и Лиза с линейками, ножницами и клеем собирали эти части, сравнивали с оригиналом, подгоняли друг к другу. По размерам копия не отличалась от оригинала ни на миллиметр, только вот. раздражали Пал Андреича стыки. Он, конечно, об этом ни Льву, ни Лизе и словом не обмолвился, понимая, что как же без стыков-то, если из частей собрано. Но, наверное, стыки эти и сделали карту неживой: в живом стыков не бывает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу