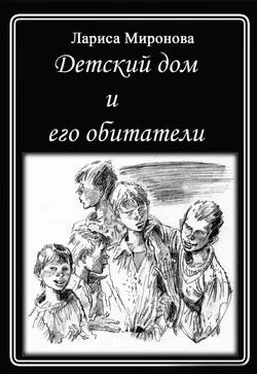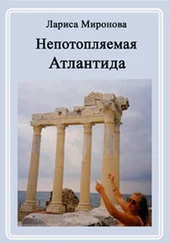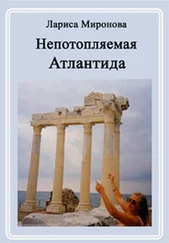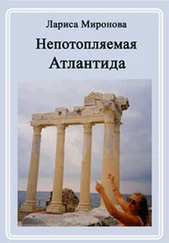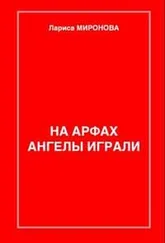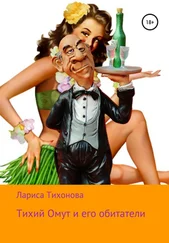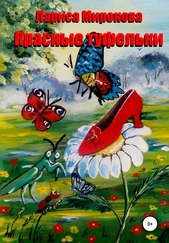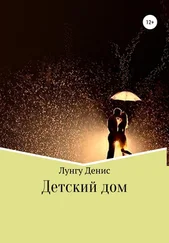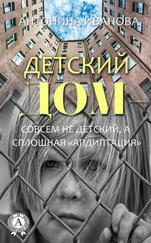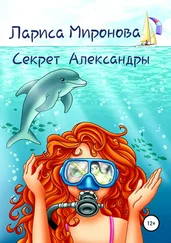Сколько я ни пыталась доказывать, что индивидуальный подход и воспитание чувства коллективизма – не противоречат друг другу, понимания, увы, не было. И тогда мне начинало казаться, что эта демагогия существует для отвода глаз, никого, на самом деле, не интересует индивидуальность ребенка, просто так легче атомизировать общество, погрузить его в хаос. А его, хаоса, повсеместно становилось в нашей жизни всё больше. Но об этом нельзя было говорить, наверное, ждали, когда будет достигнута критическая масса. Всегда ведь легче проводить преобразования в обществе, когда оно к ним внутренне уже подготовлено.
– Вы, сторонники коллективизма, – не раз говорили мне продвинутые сычи из педагогических контор, – воспитываете серость, а нам нужны яркие индивидуальности. Вы понимаете, куда всё идёт?
Пробить эту бюрократическую стену никак не удавалось. Теперь-то я понимаю, что внутри они, наверное, сотрясались от иронического хохота, выслушивая мои доводы и аргументы. Им уже было известно – куда мы идём.
Знаю, были и другие детские дома, у которых не было таких богатых шефов.
Наши сказочные богатства – в основном, заслуга лично Людмилы Семёновны. Она умела мастерски их выколачивать. Богатенькие и щедрые шефы валились на нас как из рога изобилия, хотя ничем таким особенным наш детдом не отличался от десятков других московских детских домов. Подарков от шефов у нас было столько, что с лихвой хватило бы на десятки, а то и сотни детских домов. Но не сказала бы, что именно по этой причине наши дети стали хоть чуть-чуть лучше.
Вообще-то, даже не слишком шикарных государственных «паек» было бы вполне достаточно, чтобы детдомовцы могли нормально получить среднее (или неполное среднее) образование, а детдома – выпустить в жизнь здоровых, развитых в меру отпущенных им природой возможностей, граждан страны…
.. Итак, новый календарный год мы встречали в новом качестве.
Такие перемены, однако, далеко не всех обрадовали. Исключительно строго и сухо стала общаться со мной Матрона, роняя время от времени иронично:
«Не зазнавайтесь!»
А что нам зазнаваться?
Жизнь нашего отряда стала чуть больше похожа на нормальную человеческую жизнь, это правда.
Ну и что? Если у кого и были настоящие победы, так это у Надежды Ивановны – в отряде у первоклашек. Эти малыши были первой генерацией в детдоме, которая заявила о себе со всех сторон положительно. К тому же, они не боялись старших воспитанников и не «шестерили» перед ними. А это было воистину революционным достижением. Однако отряд малышей никого особо не волновал, а от моих новаций исходила реальная угроза для всего детдомовского уклада.
Кроме того, под угрозой была также любимая педагогическая идея Людмилы Семёновны – «добыть» для нашего детдома статус «вспомогательного», а для этого надо было, чтобы 20–25 процентов детей были официально признаны олигофренами, дебилами, шизофрениками и просто умственно-отсталыми. Основную долю этого процента должны были дать, конечно, мои воспитанники. Однако большую часть кандидатов в эту «низшую лигу» мне удалось отбить от диагноза, конечно, не без активной помощи лечащего врача Олега (Ханурика). А новый статус детдома давал множество преимуществ: меньшая численность отрядов, надбавки для воспитателей, больший отпуск… И главное, меньшую ответственность за всё происходящее – ведь любой проступок и даже преступление в детдоме можно было бы списать без особых проблем на неадекватность дебильных детей. Но дети, и, правда, стали в чём-то другими. «Первый отряд» – теперь это звучало гордо. Рвётся, на пример, Беев к телевизору, а его не пускают – поздно, отбой уже. (Телевизор, общий для всех, стоял в гостиной, потом у нас появился и свой, отрядный – купили на свои собственные, заработанные деньги.)
Беев, ясное дело, отчаянно вопит:
– А «первому» можно!
Помог Огурец машину разгрузить – водитель спрашивает:
– Ты кто?
Это чтобы похвалить перед начальством.
– Я? Ну, ясное дело, «первый».
Гордо так отвечает, да ещё и по сторонам посмотрит…
За честь отряда стояли горой:
«Мы из «первого» – стало своеобразным паролем».
Теперь они чрезвычайно ревностно относились к тому, что говорят о нашем отряде. И не дай бог, кто-нибудь скажет о нашем отряде плохо! И сколько я ни убеждала детей, что критику в свой адрес надо воспринимать спокойно, а похвалы – равнодушно, темперамент наших детей хлестал через край, когда кто-то где-то неосмотрительно ронял недоброе слово о нас. Разборки начинались незамедлительно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу