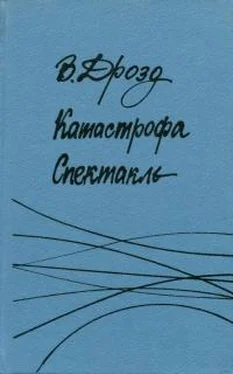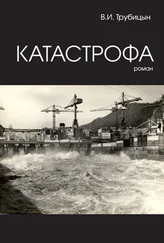А теперь вот не пишу — кричу во все горло. Как сорок лет тому, появившись из материнского лона. Когда кричат — не думают, как кричать. Когда человеку больно, ему не до стилистических изысков. Голодный не просит деликатесов. Но — неспособен я уже писать о первой любви. Слова есть — чувств нет. Умерла душа. Думалось — она стожильная, душа. Как колхозная коняга. Вытянет. Думалось: бездонный колодец во мне. Сначала — земное, чтобы доказать всем, утвердиться, а потом — для вечности. Думалось, можно на двух стульях. На таланте как на возу: дернешь за вожжу — в одну сторону едешь, дернешь за другую — в иную. Думалось, что можно с душой как с телом: испачкаешься, примешь горячую ванну — снова чист, как новорожденный. Но оказывается, есть грязь, которая не отмывается. Есть богиня Муза, которая хочет, чтобы ей служили, и мстит тому, кто не желает служить ей, а хочет сделать богиню своей служанкой. Страшно мстит.
Пишу об Олесе, а вспоминаю Маргариту в люксе мринской гостиницы, на горячих простынях с черным гостиничным клеймом. До сих пор мне казалось, что женщины появляются на моем жизненном пути, чтобы подарить острое своей новизной удовольствие, — и бесследно исчезают. Но женщины уходили от меня не бесследно, кратковременные романы разъедали мою душу, как шашель дерево.
Олеся не простила меня и никогда не простит. Случайно узнав адрес (живет она теперь в Москве, двое детей, с мужем в разводе), я послал ей несколько открыток, думал — обрадуется: такая знаменитость отозвалась, известный, талантливый и т. д. Наверное, читала обо мне не раз и книги видела в магазинах, а может, завела отдельную полку для книг Ярослава Петруни. Но Олеся не ответила ни на одну из открыток. И не позвонила, когда ехала через Киев к матери, во Мрин, где каждое лето отдыхает с детьми. А чего обижаться? Я Олесю не обманывал. Любил, пока любил. Да еще как любил!
Конечно, внешне было как у всех, обычная школьная влюбленность. Одевался я тогда в неизменный (единственный) лыжный костюм и фуфайку. Конечно, страдал. Комплекс неполноценности. Со мной учился сын директора областного театра. Разговаривая, он снисходительно улыбался и поводил носом, словно от меня несло свиньями и телятами, которых я пас в каникулы. Мои одноклассники в шевиотовых парах прохаживались с Олесей по школьным коридорам и глубокомысленно беседовали на литературные и философские темы. Я был самым маленьким в классе, и только последний пентюх не давал мне затрещин. Позже этот парень работал официантом в мринском ресторане, и я наслаждался, небрежно бросая через плечо: «Сдачи не надо…» Я сгорал от любви и ревности, ревновал Олесю к одноклассникам, к ребятам на катке, ко всему городу, в котором я все еще чувствовал себя деревенщиной. Олеся поступила в институт в Ленинграде — медалистка! — меня же ждала Тереховка. И в Тереховке я любил ее — еще горячее, ревнивее, потому что на расстоянии. Наконец через три года я отважился написать Олесе. С каким нетерпением я ждал ответа! Осенью поехал на мотоцикле в отдаленное село, начался дождь, я решил переночевать в сельсовете, позвонил в редакцию, а мне сказали, что есть письмо из Ленинграда. Завел мотоцикл и поплыл по раскисшей грунтовке, по канавам, полным воды, сквозь стену дождя. Не я ехал на мотоцикле — мотоцикл ехал на мне. До самой трассы. На мокром асфальтовом шоссе я выжимал до ста двадцати километров, едва не столкнулся на бешеной скорости со встречным автобусом — бог бережет влюбленных! — среди ночи примчался в редакцию, носился как сумасшедший с керосиновой лампой — электростанция уже не работала — по редакционным комнатам, разыскивая письмо от Олеси, а письмо лежало на моем столе под стеклом.
Но и это банально. Как у всех. И даже то, что уже на следующее лето я целовался с Олесей в ее саду на Сосновой. Я был перспективным журналистом, был на коне, как говорили тогда в редакции областной газеты. От Олеси я возвращался ночью, топал по тридцать с лишним километров от Мрина до Тереховки, опаздывал на работу, редактор влепил мне в то лето двадцать два выговора, и каждый — с последним предупреждением. А потом Олеся уехала на занятия, и всю любовь как рукой сняло, будто какой-то волшебник, могущественнее предыдущего, снял с меня любовные чары, и я уже не ждал писем из Ленинграда, просматривал их небрежно и бросал в корзину.
Затем у меня с Олесей была одна-единственная встреча. Ранней весной. Она уже закончила институт и приехала в свой первый отпуск, а я работал в редакции областной молодежной газеты, и меня официально нарекли писателем — за несколько рассказов, напечатанных в журналах. Темный ноздреватый снег у заборов, лужи на тротуарах — запомнилось. Я не дал Олесе произнести и слова — говорил лишь о себе. О книге, которая должна вот-вот выйти, о книгах, которые напишу в недалеком будущем, о славе, которая меня ждет… И еще один мотив моего глухариного (ничего и никого не слышал, кроме себя) токования запомнился: полное самопожертвование во имя литературы, во имя человечества, ожидающего мои гениальные творения, не собираюсь ни жениться, ни тем более заводить детей, все это земное, временное; дети — короеды таланта, а если любовь — то с женщиной, способной на самоотречение во имя моего таланта, моего будущего, любовь без загсов, без оглядки на придуманные людьми мещанские преграды и условности… Уже сейчас, убеждал я Олесю, у меня нет времени для встреч с нею: работа над новой книгой, издательство требует быстрее высылать рукопись, читатели ждут книг Ярослава Петруни, конференции, встречи с критиками, творческие командировки в жизнь, творческие контакты с коллегами, звонят с телевидения ежедневно, а я никак не выберу минуты, слава — вещь обременительная, ничего не оставляет для личной жизни.
Читать дальше