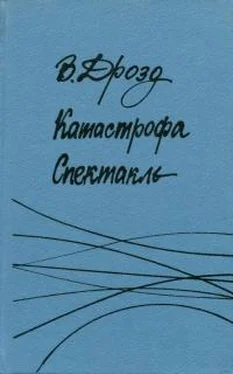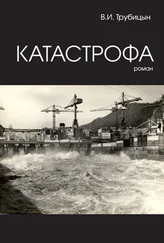А свинья тем временем уже брела мимо Общего двора, где росли одичавшие, неухоженные — ничьи — яблони, а в воронках от бомб все лето стояла вода. Но я был уже принцем Гамлетом, бродил по замку датских королей и мучился вопросом: «Быть или не быть?» Свинья, покачиваясь, плыла мимо Демьяновой риги, где жили совы, мимо силосных ям, густо обросших пасленом, его темными гроздьями я лакомился поздней осенью, но в это мгновение я не думал ни о совах, ни о паслене, я был Ромео, в склепе семьи Капулетти глотал яд и восклицал глухим предсмертным голосом: «Вот так я с поцелуем умираю!..»
Наконец я отрывался от книги, поднимал голову, и перед моими воспаленными от непрерывного чтения глазами, словно декорация к спектаклям по Шекспиру, возникало сельское кладбище: ничем не огороженный участок поля с зелеными волнами старых могил, кресты на которых подгнили и упали, а может, их спилили в войну, когда зимы были суровыми, а топить было нечем. Чуть дальше от дороги кресты еще кое-где виднелись, серые, в лишайниках, казалось, они сами растут из земли, стебли странных, неземных растений, выбеленных дождями, ветром и солнцем. Свинья привычно сворачивала на жнивье и направлялась к скирде. У скирды я соскальзывал с ее спины в солому, а Рохля шла к ложбинке, утыканной колосками. Я снова нырял в книгу, как в воду с открытыми глазами, — на долгие часы.
И только когда буквы уже сливались в темную полоску, я замечал, что день кончился и поле окутали сумерки. Я брал охапку соломы, шел от скирды к лощинке, поджигал солому и читал, наклонясь к огню, пока не подходила Рохля и деликатно, но настойчиво напоминала о себе. Я удивленно оглядывался вокруг. Вечернее небо уже брызгалось на землю звездным молоком. Кресты на кладбище вытягивались аж до хмурых туч на горизонте и щекотали сладким ужасом. Я скручивал плотный жгут соломы, зажигал его, садился верхом на свинью, и по освещенной соломенным факелом дороге мы медленно возвращались домой…
Глава-воспоминание
МОЯ ХАТА
Неужто это я стою на коленях на подоконнике в своих полотняных, крашенных бузиной штанах и прижимаюсь к заплаканному стеклу, как жмется подо льдом к отдушине рыба?!
Что общего между мной, Ярославом Петруней, известным, импозантным, перспективным и т. д., и этим зареванным мальцом с босыми, синими от холода ногами?
Ни-че-го!
А хата — что ж, хата моя, от нее я не отрекаюсь. Я вырос из своей хаты, как вырастает подсолнух из семечка: зернышко набухло, проросло, стебель поднялся к солнцу, а шелуха догнивает в земле.
Не переношу слюнтяйской болтовни про рай в хатах под стрехами.
Не было рая.
Вот он, тот мальчуган, из которого вырасту я, — в пустой холодной хате, распластанный на окне. Я словно примерз лицом к стеклу и боюсь оглянуться назад: из-под печи, из-под пола, где пищит голодный котенок, ползут сумерки, вестники ночи, их мохнатые лапищи касаются моих плеч, я реву ревмя. За окном светлее, но там морось, и пятна грязного снега на огороде, и серый двор, и корова по брюхо в грязи, грустная и будто тоже заплаканная, капли стекают по ее морде. А сумерки за моей спиной все гуще, они заполняют хату, и я задыхаюсь. Темнеет во дворе, ночь заглатывает скособоченный хлевец, огород в заплатах снега, корову, стожок сена, весь мир. Сердце мое уже не бьется, оно онемело от страха и одиночества; полумертвый, я соскальзываю с подоконника на лавку, зажмуриваю глаза, чтоб не было так страшно, и прыгаю на пол, под которым тоже черная пропасть, пристанище всех земных и небесных страшилищ, перебегаю хату, с пола — на лежанку (а страх уже хватает холодными лапами за плечи), с лежанки — на печь, и наконец ныряю под рядно.
Не могу вспоминать спокойно.
Иногда мне хочется тряхануть мир, как грушу, и вопросить его владыку, с детства спокойно взиравшего на меня с наших икон: за какие такие грехи мучил меня, господи?!
Какие грехи у ребенка?
Разве что платил за будущие грехи?
Теплая печь немного успокаивает. В закутке, возле рукавичек с семенами, знакомо скребется мышь, я радуюсь этому звуку — все ж душа живая в хате. Но чем дальше к ночи, тем более чужой становится хата: кто-то страшный шлепает по полу, кто-то возится под полом, кто-то гремит горшками да чугунами, хоть я знаю — некому греметь, потому что мать на ферме, доит коров, а отец на лесозаготовках, приезжает домой лишь по субботам.
Не верю литературным басням про хаты, благоухающие целебными травами. В нашей хате пахло сыростью, гнилой картошкой, помойным ведром, запаренной в чугунах половой, курами, что зимовали под печью, мышами, портянками, которые сохли на лежанке, мокрой овчиной и — зимой — холодом. В стужу, когда изморозь висела на окнах белыми космами, мать стелила у печи солому и заносила в хату маленьких поросят, и телок жил в хате, если корова телилась зимой. В морозные зимы посреди хаты мастерили печурку из старого ведра, щели замазывали глиной, но и печурка, и длинные, под потолок, трубы дымили, гарь висела едким облаком, еще и отец непрерывно, дни и ночи курил самосад…
Читать дальше