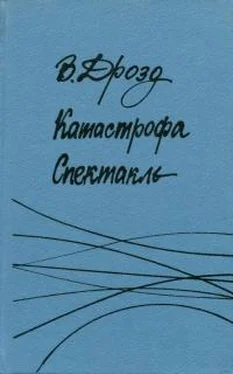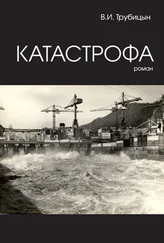Но сегодня не существовало ничего, кроме его дочери. Даже очерк, лучший его очерк, лежал на столе среди бутылочек и сосок, не вызывая у Андрея никаких эмоций. Из-под кружевного чепчика на Хаблака зыркали два заинтересованных глаза маленького человечка, который уже видел, чувствовал и, наверное, как-то по-своему анализировал мир.
— Ты ей расскажи что-нибудь, Оксана любит, когда с ней разговаривают, — внося дымящуюся кастрюлю, на ходу бросила жена.
Он стал соображать, что бы такое сказать дочке, но ничего не придумал. Не мог он в такую минуту сюсюкать и кривляться. А того, что на сердце, глубоко, словами не выскажешь, человеческий язык кажется слишком обесцвеченным, обжитым. Андрей молчал, покачивая на руках ребенка, но в этом молчании было столько чувства, что у него защипало глаза.
Марта долила в ванночку холодной воды, на дно постелила белую тряпочку, распеленала Оксанку, смазала головку подсолнечным маслом и понесла дочку купаться. Андрей только суетился вокруг, не зная, за что схватиться. Оксанка и в купели вертела головкой, махала ручками, смеялась.
— Мы любим купаться, ой как мы любим купаться, держи нам, татко, головку, — приговаривала Марта и плескала водой на детский животик. — Ниже, татко, головочку, мы не любим, когда высоко, мы сразу сердимся.
Андрей осторожно держал край пеленки, чтоб Оксанкина головка не погружалась в воду, — уже давно не чувствовал он так глубоко, что кому-то нужен на свете. Тут, рядом с дочкой, наконец пришло то, чего ему так не хватало, — уверенность в себе. Баба Христина, которая взяла их на квартиру, подала Марте горшочек:
— Я тут аирчику заварила. Своих вырастила, знаю — косточкам он добре на помочь, чтоб крепли…
Марта поблагодарила и долила в купель из горшочка — запахло речкой, лугом. Потом жена снова запеленала Оксану, а та подняла крик, очень не любила, когда ее пеленали. Андрей попробовал вмешаться, но Марта сказала, что дочке пора спать, пусть тато займется своими делами, и стала напевать что-то нежное, дремотное. В комнате все еще пахло аиром, и двор запах аиром, потому что Хаблак вылил из купели воду за порог.
И когда Андрей Сидорович, пообещав жене вернуться через полчасика, бежал с очерком в редакцию, вся улица и весь мир празднично пахли аиром. Это был родной с детства запах зеленого воскресенья, запах весны.
Излишне сентиментально, с присюсюкиванием написал о Хаблаке, правда? Этакая семейная идиллийка. Собственно, я и имел в виду нечто подобное, чтобы противопоставить этот семейный и душевный покой космическому холоду Загатного. Возможно, не сумел, таланта не хватило. Но ошибаетесь, если думаете, что мне проще выводить на сцену жизни Хаблака, чем Загатного. Мол, первый ближе, понятней авторской натуре, как все простые люди. Конечно, Иван Кириллович тип странный, с причудами, не в моем он амплуа, как говорят актеры. Хотя характер тоже активный, деятельный.
Но, выражаясь по-научному, он — идеалист, я же — рядовой материалист. Не в философском, а в обычном, житейском смысле. Иначе говоря, он больше о своем духе пекся, а я — о теле, руководствуясь мудростью Сковороды: «Приобретая духовное, берегись, как бы не загубить плотское, если это плотское может тебя привести к лучшему». (О Сковороде и о том, как штудировал его ваш покорный слуга после знакомства с Загатным, — смотри ниже.) Но снова же это слишком общо. Хотелось бы конкретнее. Не то попадут эти страницы в руки бойкого критика, тереховским обывателем обзовет и в прессе протянет, тогда не оберешься беды, особенно по служебной линии. Когда занимаешь такую должность, да еще в маленьком городке, где каждый на глазах у всех, приходится заботиться о моральной чистоте.
Хотите конкретней о разнице между мной и Иваном? Пожалуйста. Иван Кириллович всегда стремился прыгнуть выше своей головы. А я с детства убежден, что выше головы не прыгнешь. И потому довольствуюсь малым. Еще больше разжевать? Я довольствуюсь малым, как большинство людей, а он не хочет быть среди большинства, он индивидуальность, личность, интеллектуал и т. д., ему надо глубже, выше, чем серой массе, посредственности (по его словам).
К Загатному мы еще вернемся. Я о Хаблаке начинал. В Андрее меня с первой встречи раздражала какая-то патологическая неприспособленность к жизни. Его легко было жалеть, а жалость у меня незаметно переходит в пренебрежение. Действительно, ежели ты не калека, не больной, как ты мог допустить, чтоб тебя жалели? Мы все взрослые и знаем, что людям приходится время от времени зубы показывать, иначе тебе покажут. Ладно, пусть внешность от тебя не зависит. Пусть заболел в детстве, школу поздно кончил, поздно в армию призвали, поздно в институт поступил, все поздно. Но кто ж тебя, балбеса, заставлял семью заводить на третьем курсе института? Я имел уже определенное положение — и то не один месяц прикидывал, подсчитывал, прежде чем руку и сердце, как говорили когда-то, предложить, хватит ли мне тех знаков, что на Монетном дворе печатают. А кто заставлял Хаблака бросать педагогическую работу, не окрепнув, не получив квартиры, и легкомысленно кидаться в омут газетной жизни, о которой он имел весьма смутное представление? Это и я завтра воображу себя космонавтом, оставлю должность — и бегом на поезд. Что из этого выйдет? Каким, посудите, надо быть недотепой, чтоб забирать жену с ребенком у матери в чужую халупу, надеясь лишь на свою мизерную зарплату и безответственные обещания Гуляйвитра. А что до истории с редакторским псом, о которой речь пойдет ниже, то тут только руками развести.
Читать дальше